Конец большого дома
Часть первая
ГЛАВА ПЕРВАЯ
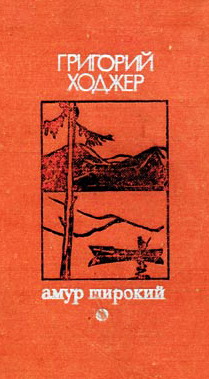
 |
| Г. Ходжер |
|
|
В полночь он уже был на озере, вытащил на берег оморочку, собрался уснуть и тут вспомнил, что не взял с собой ни подстилки из кабаньей шкуры, ни одеяла. Наломав тальниковых веток, он постелил их на дно оморочки и лег на сырые от росы холодные листья.
«Не зима, без костра переночую, не впервые», — подумал он.
Ночь выдалась безветренная. Крупные звезды усыпали почерневшее небо. Пушистой снежной порошей пролегла «Лыжня охотника» — Млечный Путь. Если бы кто и захотел найти тут свою звездочку, то навряд ли разыскал ее. Созвездие «Половина шкуры» перешло на южную половину неба, а «Сушильня юколы» оказалась над головой Баосы. Чуть-чуть севернее «Сушильни» мерцала неяркая, ничем не приметная звездочка, ее называют «Колесом неба». С малых лет Баоса наблюдает за этой звездой, и никогда она не сдвинулась с места; все звезды двигаются, а она, как шляпка забитого гвоздя, остается на месте. Когда-то в детстве отец Баосы воткнул у его изголовья шест, конец которого пришелся как раз на неподвижную звезду.
— Можешь всю ночь следить за «Колесом неба», — сказал отец. — Все небо, все звезды будут вертеться вокруг твоего шеста.
Баоса не спал ночь, он смотрел на острие шеста, на «Колесо неба», на путешествующие звезды и созвездия. С тех пор прошло много лет, у него выросли дети — четверо сыновей, две дочери, полная большая фанза внуков и внучек, а поседевший Баоса все еще надеется увидеть, как сдвинется со своего места «Колесо неба». В детстве Баоса торопил звезды, хотел, чтобы они двигались быстрее, чтобы за ночь они делали два полных оборота вокруг шеста. Но наступало утро, черное небо голубело, и звезды одна за другой исчезали, как белые камешки, брошенные на дно Амура.
«Звезды не послушны человеку, — подумал Баоса, набивая трубку листовым табаком. — Вот и дети выросли, полный дом внуков, внучек нарожали и тоже послушность потеряли. Отчего это случилось? Почему не слушаются меня?»
Баоса зажал в левой руке кремень с крохотным кусочком сухого трута и ударил обломком напильника. Искры с шипением разлетелись в стороны, одна застряла в волокнах трута и слабо затлела. Старик раздул искорку, вложил в трубку, попыхтел, и едкий дым обволок голову, отпугнул звеневших перед лицом комаров.
«Рыбы много», — подумал старик, прислушиваясь к неумолкаемому шуму озера. Всюду — и вправо и влево от оморочки — плескалась тихая вода, шуршали затопленные травы, отовсюду неслось чмоканье рыбы.
«Воды нынче большой не будет. А-я-я, какая была вода три года назад. Самые высокие редки на Амуре были затоплены, люди спасались на сопках. Ох и вода была! Никто не помнит такого. Как нанай родились на Амуре — не было такой воды».
Баосе казалось, что он до утра может думать о рыбе, вспоминать наводнение Амура трехлетней давности, но как только потухла трубка, его мысли опять вернулись к дому, к родной семье.
У Баосы была большая фанза, самая большая в стойбище Нярги, да и семья его была самая многочисленная. Как же, имея такую семью, не иметь большую фанзу? В стойбище нет охотника богаче Баосы: у него два амбара, наполненные вещами, рыболовными и охотничьими снастями, продовольствием. Он хозяин этих амбаров, без его воли ни жена, ни дочери, ни снохи не могут вынести оттуда даже крупинку, даже щепотку муки. А в изголовье его постели под циновкой лежат два кожаных мешка, в них после зимней охоты хранятся меха, добытые всеми охотниками большого дома. Правда, сейчас мешки пусты и сжаты как брюхо голодной собаки: еще зимой Баоса отдал часть пушнины за долги, а на другую часть купил продовольствия на все лето. Хорошо, дружно жил большой дом до наводнения. Дети — охотники Полокто, Пиапон, Дяпа, Калпе — всю добычу до последней шкурки отдавали отцу, главе большого дома. Снохи — Майда, Дярикта — жили в дружбе, как родные сестры. Никто никогда не возражал главе большого дома; даже тогда, когда на семейном совете мужчин возникали разногласия, слово Баосы было решающим. Когда он совершал покупки без совета мужчин-сыновей, никто из них не говорил ни слова. Баоса иногда сознательно лучшие куски материи отдавал второму сыну, Пиапону, потому что он был самый удачливый, ловкий, лучший охотник и рыбак дома, он был де могдани. Старший сын, Полокто, на глазах которого совершался дележ, без слова понимал отца. Полокто был вспыльчивый, но он сознавал, что его брат действительно великий охотник, и потому не обижался.
Три года назад во время наводнения фанзу Баосы затопило, и каждый сын с семьей прожили лето отдельно в берестяных юртах — хомаранах. Хозяин большого дома разделил запасы продовольствия поровну, и дети стали независимы от него. Баоса сам был сперва доволен, что освободился от повседневной заботы делильщика, что не надо было под взглядом десятков пар глаз делить мясо убитого лося или косули, амуров и сазанов. Старик отдыхал. Осенью, когда вода ушла, разрушенную фанзу подправили, подготовили ее к зиме, и вновь большой дом ожил, наполнился голосами, смехом, плачем детей. Но не прошло и трех дней, как начались ссоры между женщинами из-за очага, из-за детей, из-за посуды. Мужчины сперва не обращали внимания на ссоры женщин, лишь изредка, не вытерпев крика и шума, кто-нибудь кулаками унимал расходившихся женщин, но через месяц и мужчины стали искоса поглядывать друг на друга. Жены по ночам нашептывали на ухо мужьям, наговаривали всякую всячину, и все это не проходило бесследно: братья стали переругиваться, заступаться за жен, детей. Баоса уговаривал сыновей, кричал и однажды, не вытерпев, кого-то избил палкой: он был еще силен, мог справиться с любым сыном, пожалуй, не справился бы только с ширококостным, жилистым Пиапоном. Сыновья дрались между собой, но никто из них не смел поднять руку на отца и на мать. До этого еще не доходило: родители для них всегда оставались как бы святыми людьми.
Как разгорелся сегодняшний скандал, Баоса не заметил, он был весь день занят починкой старой конопляной сети. Сперва разревелись дети: самый младший сын Полокто, Дэбену, отобрал какую-то игрушку у дочери Пиапона, Миры. Девочка заплакала, и тут за нее заступилась мать Дярикта, начала шлепать мальчишку и подняла крик на всю фанзу. Жена Полокто, Майда, тихая, рассудительная женщина, самая расторопная хозяйка и любимая невестка Баосы, никогда первой не вступавшая в ссоры, на этот раз, словно разъяренная медведица, кинулась на Дярикту и начала бить ее, не разбирая по какому месту. В фанзе поднялся гвалт, заревели в один голос дети, старшие ухватились за подолы халатов матерей, младшие, испугавшись драки, забились в угол фанзы и там надрывали глотки. Женщины остервенело ухватили друг друга за косы и повалились на глиняный пол фанзы.
Тут Баоса не выдержал, выхватил палку из кучи перед очагом и стал избивать дерущихся снох. Женщины отпустили косы, прикрыли руками головы и заревели в голос.
— Ама! Так жить больше нельзя, — сказал немногословный Пиапон.
— Это не жизнь, это... — кричал буйный Полокто. — Надо разделиться, надо каждому свою фанзу заиметь, отдельно жить!
— Нас хотите бросить? — обернулся Баоса. — Мы вас кормили, поили, состарились, и вы хотите нас бросить?
Старик подбежал к Полокто, размахнулся палкой и почувствовал, что кто-то повис на его руке. Это была младшая дочь Идари.
— Не бей, ама, не бей, — шептала девушка. — Но дерись, хватит...
Налетели комары, и Баоса высек огонь кресалом и поджег половину шляпы сморщенного древесного гриба-трутовика. Запахло паленым, будто готовили рядом жертвенную свинью. Комары попрятались в низкой молодой траве. Приближался рассвет, из темноты медленно проступали прибрежные кусты, деревья, они словно приближались к Баосе. На озере еще громче зачмокали караси, всплескивали сазаны — у рыб веселье, свадебный праздник.
Ама — отец
Баоса не замечал утренней прохлады, окутавшего его тумана, голова у него пухла от раздумий. Сколько он помнит себя, деда, отца — все они жили в одном большом доме, все имущество, продовольствие между собой делили поровну, пушнину продавал или обменивал глава дома, хотя перед этим он и советовался с мужчинами. Маленького Баосу не приглашали на совет, но когда ему минуло восемнадцать лет, когда он убил третьего кабана, четвертого лося и первого медведя, глава дома — дед — пригласил его на совет мужчин. Баоса помнит, в его молодости дядья тоже иногда ссорились между собой, но стоило деду вымолвить слово, как они тотчас мирились; если был виноват младший, то на коленях просил прощения у старшего, если был виноват старший, то брал мужчину моложе брата, и тот за него просил прощения. Таков обычай. Братья мирились, и в доме наступало спокойствие, дружба, только несмышленые малыши иногда принимались драться, но это было просто утехой для старших.
А у Баосы подрались жены двух старших сыновей, а сыновья, вместо того чтобы унять их, вроде даже заступились. Что же будет дальше? Баоса в горячке избил Майду, распределительницу в большом доме, которая отвечала за достаток в пище людям и собакам, по указу которой во время путины мужчины днем и ночью ловили рыбу, а женщины сушили юколу, обжаривали жирные брюшки, вытапливали жир — готовили впрок. Пока Майда не говорила «хватит», мужчины и женщины продолжали свою работу. Майда не только умела подсчитывать запасы пищи, одежды, она сама работала проворнее и лучше всех женщин. Баоса раньше никогда не поднимал на нее руку и теперь бы не тронул ее, если бы не кричала и не ругалась на все стойбище эта вздорная, взбалмошная Дярикта. Как только смирному, спокойному Пиапону досталась такая женщина? Видно, судьба, тут уж ничего не поделаешь. Как бы Пиапон хорошо жил, если бы женился на такой как Майда. Все в жизни получается наоборот: крикливый, шумный Полокто женился на спокойной, тихой Майде, а терпеливый и умный Пиапон — на легкомысленной Дярикте. Ох, жизнь, какая ты все же несправедливая!
Рассвело. Баоса, поеживаясь от холода, встал и прошелся по берегу. Вода отливала свинцовой синевой и еще надежно скрывала брачные пары карасей, сазанов и пожиравших свежую икру сомов. Баоса вернулся к оморочке, лег на примятые, еще хранившие его тепло ветки тальника, и будто ожидавшие этого момента мысли вновь зашевелились в голове.
Пиапон, второй сын, де могдани, можно сказать главный кормилец большого дома, окольно высказался за раздел, а старший, Полокто, прямо заявил об этом. Что же выходит? Если двое младших — Дяпа и Калпе — поддержат старших, то Баоса останется один на совете мужчин. Но нет, он не будет совещаться с ними об этом. Пока жив — большой дом сохранится! Когда умрет, тогда хоть разрушьте дом, хоть разъезжайтесь куда глаза глядят, — Баосе будет безразлично. Возбужденный старик не мог лежать, сел и снова закурил.
— Пока я жив, будете жить со мной в большом доме, — сказал он вслух. — Деды, отцы наши так жили, и мы будем так жить.
Перистые белоснежные облака над головой Баосы покрылись малиновым цветом, вода на озере теряла синеву, и сквозь ее толщу стали проглядывать рыбки, донные камешки, зеленая травка. Баоса вытащил древко, вдел трехзубую острогу и оттолкнул оморочку. Чмокавшие у берега караси бросились врассыпную, озорно всплескивавшие хвостами сазаны примолкли, прислушиваясь к прибрежному шуму. Баоса медленно поплыл, отталкиваясь острогой и коршуном поглядывая по сторонам. Впереди он заметил мелкую рябь, будто сотни мальков большой стаей плыли за кормом. Вдруг среди этой ряби взметнулся один фонтанчик, другой — можно было принять их за удары хвоста зеленых щурят. Но Баосу не обманешь, он знает: там притихли насторожившиеся сазаны. Так и есть, четыре больших толстых сазана, медленно двигая плавниками, уходили от него. В середине самый крупный, он угольно-черный, старик даже принял его сперва за черного амура. Баоса поднял острогу, нацелился в черного великана и метнул. Три стальных лезвия оскально блеснули в воздухе, вспороли алую воду и впились в сазанью горбинку. Черный великан ударил веерным хвостом, показал медно-красный бок и тут же притих.
— У меня не пошевелишься, — довольный собой, проговорил Баоса, подтягивая за бечевку острогу с толстым сазаном. — Если тебя ударишь между горбинкой и головой, куда ты денешься? Никуда. Ну, лежи спокойно.
Другие три сазана рванулись в сторону и притихли в нескольких десятках метров. Баоса плыл за ними, находил другие брачные пары и бил на выбор самых крупных. Встречались ему и сомы, украдкой поедающие только что отложенные икринки, старик бил их беспощадно, и ни один замеченный тупорылый разбойник не ушел от его трехпалой остроги.
Солнце поднялось над сопкой и покатилось по своему извечному пути, обогревая застывшие за ночь кости Баосы, золотя озеро, где скоро вылупится из икринок множество мальков, лаская пушистые комочки пискливых птенцов в гнездах, вливая исполинскую свою огненную силу земле.
Баоса заполнил оморочку сазанами, сомами, карасями, сел поудобнее и замахал двухлопастным веслом-маховиком. За азартной рыбной ловлей старик забыл обо всем на свете, но, подъезжая к стойбищу, вновь вспомнил о домашних неурядицах.
«Что там? Не покинули ли дом сыновья, как покидает мужа сварливая жена?» — подумал он.
Оморочка вышла на широкий плес, и впереди на песчаном берегу, обрамленном зелеными тальниками, показались фанзы, амбары на коротких сваях, сушильни юколы. Берестяная лодчонка ткнулась в мягкий песок и замерла. Баоса не спеша вылез, вытащил ее на берег и огляделся: лодки были на месте, оморочки сыновей тоже, только берестянка Полокто была мокрая, со свежей рыбьей чешуей. Одна большая чешуя, как серебряная монета, сверкала на борту возле сиденья.
«Амура поймал», — мелькнула мысль.
Из фанз, загнув хвосты крючками, хватая друг друга за бока, бежали собаки. Последним ковылял дряхлый большеголовый пес. За ним с большой плетеной корзиной для рыбы спешила младшая дочь, Идари.
— О-ео, сколько ты наловил, ама! — воскликнула девушка. — Больше даже, чем старший брат.
Баоса бросил собакам по карасю, те с урчанием отбежали в стороны и, прижав рыбу передними лапами, начали с хрустом грызть сладкие головки. Только большеголовому псу старик не подбросил карася, а подошел к нему, погладил меж ушей. Подошла с плоской плетенкой — соро — Майда.
— С моим соро здесь не управиться, — сказала она. — Идари, как можно быстрее будем носить. Эй, сынок, Ойта, иди сюда, покарауль рыбу, а то, пока мы носим, собаки растащат.
Ойта, десятилетний старший сын Полокто, черноглазый, быстроногий мальчик, прибежал на зов матери.
— Дедушка, а папа привез амура, большого-большого, мы уже талу ели, — выпалил Ойта. — Мы с Гарой тоже пойдем бить карасей острогой...
— Куда мы рыбу денем... — притворно вздохнула мать.
— Как куда? Сушить будем, потом ты будешь ее варить, кости выбирать, а мы все будем есть с соленой черемшой. Мама, я люблю сушеного карася с черемшой.
— Ладно, карауль, только собак не подпускай.
«В большом доме спокойно», — подумал Баоса, и все ночные тревоги исчезли, как исчезает жиденький туман, когда выглянет солнце из-за сопок.
Тала — блюдо из сырой рыбы.
Баоса прихватил с собой острогу, он никогда не оставлял ее на берегу, слишком ценил. Острогу эту сделал ему в знак дружбы нанайский мастер из стойбища Толгон, которое находится выше по Амуру. Зацепы на пальцах остроги мастер не вырубал зубилом, он знал какой-то старинный нанайский секрет спаивания металла и зацепы приваривал. Ни у кого в Нярги и в близлежащих стойбищах не было подобной беспромашной, цепкой остроги. Старик ценил ее так же, как и ружье. Баоса бережно положил острогу на нижнюю перекладину сушильни. Он никогда в жизни не оставлял ее стоймя, потому что в раннем детстве видел, как острога поймала в грозу молнию и подожгла фанзу.
— Мапа, тебе из амура нарезать талу? Может, из сазана хочешь? — спросила, встретив мужа на пороге, жена.
— Сазан, амур — разве не все равно? Режь быстрее, я со вчерашнего дня ничего не ел.
— Может, пока я режу талу, ты ухи из карасей поешь?
— Не разговаривай много, талу делай!
— Режу, режу! — ответила старушка и втянула голову в плечи, будто ожидая удара. Прожила она всю жизнь понукаемой, беззащитной и привыкла исполнять без лишних слов приказы грозного, крикливого мужа.
Полокто лежал на нарах, положив ногу на ногу, и с наслаждением сосал короткую трубку.
— Ты на нерестилище ездил? — спросил отец.
— Нет. Неинтересно там. За амурами ездил, — ответил Полокто.
— Неинтересно, неинтересно. О желудке надо думать, о себе, о детях. Пока карасей много, надо ловить и сушить. Где Дяпа и Калпе? Куда они делись?
Дяпа и Калпе — холостые сыновья Баосы, обоим им перевалило за двадцать лет.
— Для невода веревку вьют.
— Из какого лыка вьют, вареного или моченого?
— Не знаю, сам только вернулся.
Баоса устал, живот у него стянуло от голода, иначе он тут же выбежал бы к младшим сыновьям. В молодые годы он был скор на ногу, криклив, как ворон, теперь, видимо, старость брала верх, от молодости остался только звенящий голос, а тело отяжелело, некогда пружинистые ноги совсем ослабли.
Старик съел мелко нарезанную с диким луком талу, обглодал два крупных карася, запил молочно-белой, радужно искрившейся бесчисленными кружочками жира ушицей и, вытерев губы ладонью, вышел на улицу.
Мапа — старик.
Дяпа и Калпе вили веревку за амбарами на горячем, сыпучем песке. Баоса еще издали по красноватому с черными крапинками лыку понял, что сыновья вьют веревку из моченого лыка.
В апреле после таяния снегов старик наготовил целую лодку липовой коры, часть он затопил на маленьком озерке, чтобы «сгноить» кору и отделить лыко от коры, другую половину он варил в большом китайском котле и тут же острием дубовой палки отделял лыко. Веревки из вареного лыка получались гораздо прочнее, чем из моченого, а чтобы веревка служила дольше, в нее вплетали нежную мягкую кору молодого тальника, которая сверху прикрывала веревку и сохраняла от воды и солнца.
— Ама, мы кончаем вить веревку, — радостно сообщил самый младший, Калпе.
— Вижу, кончаете. Почему мало тальниковой коры вплетаете?
— Хватит и столько, крепкая будет веревка, — ответил Дяпа.
— Крепкая, крепкая! Откуда знаешь, что крепкая получится? Не успели еще пупы высохнуть, а они уже научились лениться. Вы себя не прокормите, женитесь — жены с голоду подохнут. Смотрите, если на кетовой хоть раз лопнет эта новая веревка, на ее концах повешу обоих.
— Тальники гибкие, не выдержат, согнутся, — улыбнулся Дяпа.
— Тогда, ама, я буду вить совсем непрочные веревки, — с серьезным видом стал рассуждать Калпе. — Такие веревки, которые и мою тяжесть не выдержат. Повесишь нас, а веревки оборвутся, и мы убежим, совсем уйдем от тебя.
Баоса любил младших детей — Калпе и Идари, они были единственные люди в большом доме, которые могли над ним подшучивать, иногда даже перечить, такие маленькие вольности старик им прощал. Но теперь последние слова сына больно задели его.
— Ты что говоришь? Куда уйдете от меня?
— А что? Если ты повесишь нас, мы уйдем в буни. Если живы останемся — из дома уйдем. Так и так уйдем.
— Ты сегодня много разговариваешь, Калпе! Идите, тальниковую кору принесите.
Буни — потусторонний, загробный мир.
Парни, улыбаясь, направились в тальниковую рощу. Баоса обмерил свитую веревку и остался доволен: веревка получилась тугая, крепкая, сыновья на совесть вплетали мягкую тальниковую кору. Старик часто бывал доволен сыновьями, он радовался их улову на рыбной ловле, богатой добыче на охоте, но никогда не хвалил их в глаза, он всегда делал вид недовольного человека, ему казалось, что стоит однажды похвалить сыновей, как они расхолодятся и их покинет удача.
— Ты чего это такие нехорошие слова говоришь, анда? — раздался голос за спиной Баосы. — Когда ты гневаешься, ты не знаешь, что говоришь. Неужто тебе дети надоели? Не так-то их у тебя много, ты можешь их обидеть, и они могут от тебя уйти. Соромбори. Нехорошо.
Говорил сосед Баосы Гаодага Тумали, старый друг и нравоучитель, напарник по охоте, они и жили по соседству в стойбище Нярги больше двадцати лет. Подружились они на охоте в тайге. Баоса наткнулся на шалаш тяжело заболевшего Гаодаги и выхаживал его, пока тот не выздоровел. У Баосы Заксора в то время рос годовалый мальчик Дяпа, и охотники договорились связаться кровными родственными узами. Через год у Гаодаги родилась дочь Исоака, и он перебрался в Нярги, построил фанзу возле Баосы.
— Бачигоапу, анда, — поздоровался Баоса. — Крепкую веревку свили, года на три хватит.
Гаодага повертел в руке веревку и тоже остался доволен.
— Чего зря ругаешь молодцов — не понимаю, — сказал он, присаживаясь на горячий песок.
— Не поругаешь их — разленятся.
— Не разленятся. — Гаодага подал кисет Баосе. — Я видел, ты вернулся с уловом. На нерестилище был?
— Там.
— Дочь твоя приносила нам сазана. Много рыбы?
— Карасей много, а сазаны еще не разыгрались.
— Как рыба ведет себя?
Баоса набил трубку, выпустил сизый дымок.
— Ты о воде думаешь? — спросил он. — Такого наводнения, как три года назад, не будет, рыбы так говорят.
— Я тоже так думаю.
Старики замолчали, попыхивая трубками. Каждый думал о чем-то своем.
— Баоса, чего мы ждем? — вновь заговорил Гаодага. — Ждем, когда у Дяпы бородка будет, как у нас? Или ты думаешь, он с женщинами не умеет спать?
— Выпить захотел?
Анда — друг.
Соромбори — грех, грешно.
Бачигоапу — здравствуй.
— А что? И выпить неплохо.
Баоса медлил с ответом.
— Чего ты молчишь? Нехорошо, выходит, я насильно навязываю тебе дочь. Слышал я, другие свататься собираются, потому говорю. Слово я должен сдержать, не где-нибудь по пьянке бросил его, а в тайге высказал. Другое дело, если ты отказываешься от моей дочери.
— Дочь у тебя Исоака — хорошая девушка, работящая, послушная. Знаю, Дяпа не дождался свадьбы, уже спит с ней.
— Что ты говоришь, Баоса! Как...
— Подожди. Дяпа мне не говорил, но у меня глаза есть, я вижу. Ничего плохого нет, все в молодости грешили. Я вот думаю о тори, вдруг ты много запросишь.
— Смотрю я — ты хитрить где-то научился. Ты же знаешь — через год мне надо женить сына Чэмче; когда я буду свататься, ты за Идари хочешь большое тори взять? Так ты думаешь?
— Давно бы так сказал, — облегченно вздохнул Баоса. — Выходит, мы поженим сыновей дюэенди.
— Выходит, так.
— Наши дочери обе хороши, я заранее говорю: если ты не запросишь тори, и я не запрошу.
— Не надо мне тори, обменяемся, и все. Только одно хочу сказать: не надо женить по нашему закону — это слишком долго, времени много требует, поженим их по-простому.
— Как по-простому? Они по-простому давно уже под кустами наженихались.
— Ты опять за старое. Я говорю, подготовимся в один день, на другой справим свадьбу, на третий попьянствуем, и все. Время дорого.
Баоса согласился с другом, и старики начали договариваться, кто сколько выставит на свадьбу водки.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Холгитон Бельды, высокий, костлявый, с хрустом в пояснице разогнулся, вытаскивая из лодки мешочек с пшеном. К нему подскочил сосед его — маленький, щупленький, как подросток, Ганга Киле.
— Дай помогу! Давай, давай, одному тебе тяжело.
Тори — выкуп за невесту.
Дюэенди — путем обмена.
Ганга принял мешочек и отнес подальше от воды, к сыпучим сухим пескам. Оставив там мешочек, он вернулся назад.
— Как ты съездил? Хорошо?
— А как же? О-о, как еще хорошо! Видишь, сколько я муки, крупы привез. Водку тоже привез. О-о, как здорово я ездил! Русские друзья меня встречали, чуть ли не на руках носили, из одного дома в другой водили, водкой поили, наверно, за день я ведро водки выпил.
— А видать, не пьяный, — засомневался Ганга.
— Потому не пьяный, что сильный я на водку, ты же знаешь, мы с тобой много раз выпивали. — Холгитон выволок из лодки другой мешок. — Вот с этим грузом я ехал против течения, обгоняя русскую железную лодку с колесом на заду. Она пыхтит, из трубы черный дым валит, как изо рта дракона, так тужится, я тоже не последний человек на земле — давай нажимать, давай! И обогнал, пока она косу обходила, я протокой обогнал ее.
Ганга отнес и второй мешок.
— А как меня любезно купец Терентий принял, ты даже во сне не увидишь. Он мне сиденье русское на четырех ножках подвинул, и руку пожал, и улыбнулся, не так, как ты улыбаешься, а мягко, хорошо.
Ганга слушал соседа, приоткрыв рот, ощерив желтые мелкие зубы, глаза его совсем запрятались между век. Холгитон, даже не взглянув на него, знал, какое у него выражение лица. Давно они соседи, пригляделись друг к другу. Что ни говори Ганге, будь это приятное или оскорбительное, всегда он скалит зубы в идиотской улыбке, точно так же, как скалит зубы загнанный охотником енот.
— А другого богатого русского ты встретил? Этого, который просит траву косить? — спросил Ганга.
— Как же не встретить? Он даже ночевать оставлял, да я отказался. Ворошилин — богатый человек, одних коров и лошадей у него больше, чем собак у тебя и у меня.
— Траву ему надо нынче косить?
— Надо, обязательно надо, Он приедет сюда.
Ганга помог Холгитону выгрузить мешочки с крупой, мукой, водку, помог ему перетаскать все добро в амбар. Потом они сидели за маленьким низеньким столиком на нарах, пили из крошечных, с наперсток, фарфоровых чарочек разогретую водку.
— У меня достаток в доме, — разглагольствовал Холгитон. — Что мне надо? Много ли надо, мы с женой вдвоем живем, немного этого, немного того — и хватит. Другое дело — большая семья, большой дом, как у Баосы, им надо всего много.
— У них всегда все есть, они, как муравьи, все домой тащат, — сказал Ганга улыбаясь.
— Это хорошо, детей надо кормить, а ты, наоборот, все из дому тянешь...
— Ты меня позвал, чтобы плохое говорить? — оскалил зубы Ганга.
— Пей.
— Пью, пью. Много надо пить, чтобы все забыть.
— Эх, был бы я халада, как отец в старое время, пил бы вместо воды только водку.
— Ты тогда дал бы моим сыновьям денег на тори, и они купили бы себе жен, — подхватил Ганга.
— А что? И дал бы, у меня деньги лежали бы в медных котлах, их было бы больше, чем у болоньского китайца — торговца У, больше, чем у русского купца Терентия.
— Если бы у меня были деньги, я тоже отдавал бы всем. Я такой — нежадный, ты же знаешь меня: как что лишнее появится дома, так меня тянет его вынести оттуда и отдать кому-нибудь, — лепетал Ганга, засыпая на нарах Холгитона.
— Знаю, знаю, потому-то ты и гол и бос, двух взрослых сыновей не можешь женить, вот они и рыщут, как лоси осенью, чужих жен соблазняют. Жени их скорее, а то ноги им обломаем!
— Женю, обязательно... обязательно... пушнину добудем, гори будет... пить, ох пить будем...
— Эх, анда, анда, ты так сыновей пропьешь... Нехорошо мне тебя учить, я намного моложе тебя, но ты пьешь мою водку, потому слушай. Проспись, Ганга, слушай... Я все же староста стойбища, русские меня поставили старостой, потому могу ругать тебя. Проснись!
— Женю, всех женю, и тебя поженю...
Холгитон сплюнул на пол и чарочку за чарочкой стал пить теплую, вызывающую тошноту водку.
— Супчуки, — позвал он жену, — скажи, кто к тебе приходил?
Высокая, костистая, крупная Супчуки медленно поднялась из-за темного очага, подошла к мужу. Глаза ее за толстыми веками зло поблескивали.
— Зачем ты взял меня в жены, если ребенка... — с душевным надрывом, с отчаянием заголосила она. — Я детей хочу, я жить хочу! Я молода, я хочу детей!
Халада — глава нескольких стойбищ.
— Не кричи, люди услышат, — проговорил Холгитон, сразу трезвея. — Ладно, не спрашиваю.
Холгитон устало прилег на нары и закрыл глаза. Супчуки вернулась к очагу и притихла. В мазанке наступила тишина, прерываемая тонким писклявым храпом Ганги.
Холгитон лежал с открытыми глазами; голова кружилась, но мысли текли по давно проторенному пути, как льдины несутся весной по реке, зажатые с обеих сторон берегами. В доме мертвая тишина... Если бы здесь были дети... Холгитон живет с Супчуки больше десяти лет, в первые годы ему казалось, что он привел в дом бесплодную женщину, и главную вину перекладывал на нее, лечил ее у старушек знахарок, ездил не раз к великому шаману и только позже стал догадываться, что виноват в бездетности Супчуки он сам. Прошло еще несколько лет, и Холгитон с ужасом понял, что он неполноценный человек и ему никогда не иметь своих детей. Какой же это нанай, который не имеет детей! Холгитон всячески скрывал свою беду, много раздумывал над ней, но никак не мог свыкнуться с мыслью, что он бесплоден. Нет, он должен иметь детей!
Так появилось молчаливое согласие между ним и женой: скрепя сердце Холгитон разрешал Супчуки встречаться с молодыми охотниками. Но ревность брала свое, после каждого возвращения с охоты, рыбной ловли или выезда в Малмыж он с ненавистью и с какой-то душевной болью начинал измываться над женой, учинял допрос. В первое время Супчуки больше отмалчивалась, потом стала злиться, а теперь в ответ сама поднимала скандал.
Холгитон боялся, как бы соседи не услышали Супчуки и не раскрыли его тайны.
— Иди позови старшего сына Ганги Улуску, — с трудом продолжал Холгитон. — Скажи, пусть придет за отцом... — Голос его вдруг осип, он опрокинул в рот водку и хрипло закончил: — Можешь не спешить.
Супчуки подправила халат, опустила толстую упругую косу на грудь, как это делают девушки, и вышла из фанзы.
Холгитон еще подогрел водки в узкогорлом медном кувшинчике и пил, чтобы опьянеть и забыться во сне. Сколько времени прошло, он не знал. Дверь открылась, вошел Улуска, за ним шла розовощекая, разрумянившаяся Супчуки.
— А, Улуска-анда, проходи, проходи сюда.
Холгитон босиком спустился на глиняный пол, сделал, пошатываясь, два шага и обнял вошедшего плотного человека с широким добродушным лицом, очень похожим на лицо Ганги. Улуска выглядел строже отца, он знал, когда улыбаться, умел вовремя гасить улыбку.
— Выпьем, выпьем, садись за столик, — тянул его Холгитон. — Отец твой уснул, ну и пусть спит... Пей, Я к русским ездил в Малмыж, я гостил, а вернулся на русской лодке, которая дымит на заду... они меня до протоки... да, не веришь? Спроси у отца. Эх! Жить как хорошо... правда, хорошо? Пей, давай пей! Что смотришь! Водка еще есть, я богатый, очень богатый.
Холгитон выпил еще несколько чарочек и мешком свалился на нары, он что-то бормотал, клацал зубами, потом захрапел.
— Останься, переночуй, — жалобно попросила Супчуки Улуску. — Он теперь не проснется до утра, он крепко спит, по земле волочи за волосы — он не проснется.
Улуска колебался, настороженно поглядывал на храпевшего хозяина фанзы, на умолявшую его женщину.
— Хочешь еще водки? — Супчуки наполнила медный кувшинчик, подогрела и подала Улуске. — Не бойся, он не проснется. Ты можешь в полночь уйти.
Улуска пил и медленно пьянел.
— Скажи, а когда я женюсь, ты тоже будешь меня зазывать?
— Ты женишься?
— Что я, не мужчина? Знаешь ведь меня, — хвастливо выпятил грудь Улуска.
— Ты же говорил, на тори нет денег, отец все тратит...
— А я поженюсь, старшая дочь Баосы, Агоака, будет моей женой. Пусть смеются надо мной, пусть растопчут, пусть назовут женщиной, но я женюсь. Мы с тобой, Супчуки, несчастливые люди, нам в жизни не везет, у меня отец всю пушнину, деньги пропивает, а у тебя муж какой-то... Так, да? Был бы он силен в постели, ты не стала бы попрошайничать... — Улуска выпил, вытер рот тыльной стороной ладони. — Слабый я человек, ненавижу себя. Сколько пушнины добываю, трех жен можно было купить, а я не противлюсь, не говорю ни слова отцу, когда он пропивает... Эх, ну что же я за человек!
— Не кричи, люди услышат...
— Пусть слышат, пусть все слышат: я не мужчина, я не охотник! Чего испугалась! Мужа? Зачем тогда меня оставляешь ночевать? Я не хочу с тобой спать, я женюсь на дочери Баосы. Слышишь? У тебя муж живой, он рядом храпит, как кабан.
Супчуки нежно обвила руками Улуску вокруг шеи и прошептала:
— Не боюсь я мужа, я хочу тебя...
Улуска проснулся с головной болью, он лежал с кем-то под одним одеялом, спросонья ему показалось, что рядом с ним Супчуки. Только приглядевшись, он узнал затылок отца с небольшой лысиной.
«Где мы спим? Дома или у Холгитона?» — подумал он и приподнялся. Рядом с ним на хозяйской постели лежал Холгитон (он, видимо, ночью перебрался туда), хозяйка растапливала очаг, и сизый многослойчатый дым стлался над нарами. Улуска сел на постели, к нему подскочила Супчуки с зажженной трубкой. Улуска затянулся, дымом пытаясь уменьшить прогорклость во рту. Голова кружилась, ломило ее, будто кто крепкими руками сжимал с двух сторон. Чтобы чем-то отвлечься, Улуска стал рассматривать внутренность фанзы.
«Я богатый, очень богатый», — вспомнил он слова Холгитона. У этого «богача» была такая же нищенская фанза, как и у отца Улуски. Низкий очаг с вмазанным в него большим котлом, в котором варили и корм для собак и еду для людей; нары с правой стороны фанзы застланы не очень новыми камышовыми циновками, а над нарами, в рост человека, глиняные стены закопчены жирником, дымом очага, покрыты серым пеплом и паутинными тенетами, так что не разглядеть цвета глины. А трава, которой покрыта фанза, поперечные перекладины, балки чернели над головой, как беззвездное, затянутое непроглядными тучами небо.
Улуска хотел определить время, но мелкорешетчатое окно было затянуто большим соминым пузырем, сквозь который ни один остроглазый охотник не разглядит, что творится на улице.
«Ну, где же твое хваленое богатство?» — хотел спросить Улуска у хозяина, обернулся к нему и встретился с его холодным взглядом, но через мгновение глаза уже щурились в доброй улыбке.
— Вот так за отцом, называется, пришел, — засмеялся Холгитон. — Тепло с отцом спать? Ох, голова у меня трещит, я не помню, как уснул. Ты, наверно, за мной сразу уснул тоже, да?
— Не помню ничего, — соврал Улуска.
— Эй, жена, солнце поднялось? — спросил Холгитон.
— Солнце уже на макушке, вставайте, я талы вам нарежу.
По голосу жены Холгитон понял, что она довольна.
— Ну, вставайте! Улуска, растолкай отца, что это он разоспался? Вставай, Ганга, выпьем еще немного. Водка есть, водка у меня всегда найдется, если надо будет, я сам ее изготовлю...
Только после полудня вернулись в свою фанзу сын с отцом. У порога их встретила не по годам старая, ссутулившаяся женщина с беспомощным взглядом слезившихся глаз. Она была одета в старый рваный халат, на ногах дырявые зимние мужские унты со срезанными голенищами.
— Дома есть нечего, — прошамкала старушка.
— Мама, мы дома не едим, мы в гостях едим, — сытно икая, промямлил Ганга.
— Эне, ничего, я вечером рыбу привезу, — пообещал Улуска. — Сейчас нерест, рыбы везде много.
— Люди полные сушильни юколы навесили...
— Нечего, мама, на людей смотреть — от зависти можно умереть. У людей что? У них полные амбары вещей, еды. А у нас что? Одна полудохлая, голодная крыса, и все. Хи-хи-хи! Улуска, нечем эту крысу кормить, принеси — съедим.
— Эне, где Пота? — спросил Улуска.
— Острогу взял и уехал.
— Чего тогда хнычешь, Пота уехал с острогой — рыба будет. Потерпи немного, он рыбу привезет, ты будешь талу есть, жирную уху... — сказал Ганга.
— Ты всю жизнь надо мной насмехаешься, — обиделась старушка и горько завздыхала.
Ганга оскалил зубы и захихикал, взбираясь на низкие нары.
Мама — старушка. Эне — мать.
Мужчины большого дома Баосы Заксора несколько дней добывали рыбу острогой, женщины с утра до позднего вечера пластали сазаньи бока и, вдев на жердинки, вывешивали на сушильне под горячее солнце и теплые ветры. Оставшиеся головы, хребтины варили в больших широких котлах, потом, удалив все мелкие и крупные косточки из рыбьего мяса, поджаривали в тех же котлах, отскабливая и перемешивая палкой с железным лопаточным наконечником. Белое рыбье мясо поджаривалось, блекло, желтело крупными зернистыми ядрышками. Это была такса, любимое блюдо нанай, которое он ел с рождения и до самой смерти, то перемешивая с сочной голубикой или кислыми, мягкими дичками-яблочками, то заправляя ею кашу. Зимой охотник, вернувшись в шалаш, вскипятив чай, проглатывал несколько ложек таксы, обильно залитой рыбьим жиром, и через час оживал, усталость его снимало как рукой.
— Пока хорошая рыба есть, будем готовить таксу, — распоряжалась Майда, — варите только сазанов.
Внутренности рыб с белыми слоями жира собирали в отдельном котле, руками мяли жир, печень, кишки и оставляли, чтобы отстоялось и немного испортилось, приобрело запах. Толстые зеленые мухи, точно вороны, кружились над разделанной рыбой, роем носились вокруг вывешенной юколы.
Идари с матерью считались мастерицами, они могли растопить жир и поджарить его на любой цвет, от прозрачно-желтого до густо-коричневого и темного, и любого вкуса — но запросам охотников. Когда весь жир с дневного улова был растоплен, когда Майда заметила, как уменьшился декан — плавник шатром сложенный и сухой тальник, — она отправила двух сестер, Агоаку и Идари, за дровами.
День выдался солнечный, ветер-верховик едва трепал узкие листочки тальника, легкие белые облачка-шалуны изредка набегали на солнце и прикрывали его ненадолго. Вода в протоке, изрезанная течением, закрученная сотнями воронок, морщилась местами от ветра. Идари глянула на воду, и ей показалось, что она видит чье-то знакомое, изрытое оспой, изрезанное старческими морщинами лицо. Это лицо, сколько она помнит, никогда не улыбалось, оно всегда выражало недовольство, озабоченность.
«Так это же отец, — спохватилась Идари. — О нем я думаю. Нет, наша протока не похожа на отца, она умеет ластиться и веселиться, хотя тоже может быть сердитой и даже взбешенной. Но я все равно люблю и отца и протоку».
Идари сидела на веслах и изо всех сил гребла против течения. Она смотрела прямо перед собой на плескавшуюся на дне лодки воду и перекатывавшуюся по ней берестяную чумашку-черпалку, на ноги сестры, обутые в летнюю кожаную обувь: она боялась долго глядеть на воду, на быстрое течение, на завихрения, потому что у нее тогда кружилась голова и сосало под ложечкой. Точно такое ощущение она испытала однажды в детстве, когда по наущению мальчишек — Поты, Чэмче и других — залезла на высокий тальник; лишь чудом удержалась она тогда на дереве и не свалилась на землю. Ее снял с тальника Пота.
Сколько живет Идари на своей протоке, почти каждый лень она ездит с кем-нибудь на лодке то за дровами, то за ягодами или грибами, то на рыбную ловлю, но никак не может без содрогания, без страха смотреть на воду.
— Налегай, переплываем протоку! — прикрикнула Агоака и начала загребать рулевым веслом.
Идари взглянула на сестру и увидела, как понесло ее вместе с кормой лодки вниз по реке, только замелькали тальники и обвалившийся высокий берег с ноздреватой серой глиной. Девушка закрыла глаза.
— Трусиха ты, Идари, — засмеялась Агоака. — Когда ты привыкнешь к течению?
— Не знаю, голова кружится, — прошептала Идари. Переплыли на правый берег, здесь течение было тихое, проглядывалось искрившееся блестками желтое песчаное дно. Запыхавшиеся девушки пристали к берегу и бросились на зернистый горячий песок. Идари лежала вниз лицом, распластав руки в стороны, будто обнимая землю, и ни о чем не думала. Агоака лежала рядом, она брала в ладони песок и тоненькой струйкой пересыпала в вырытую ямку, будто просеивала чумизу, купленную у болоньского торговца У. Вдруг она обернулась к реке, подтолкнула сестренку:
— Смотри, твой Пота подъехал.
Идари села. Пота вылез из оморочки, подтянул ее и подошел к сестрам.
— Бачигоапу, девушки, — поздоровался он, опускаясь возле них. — Что вы здесь делаете?
— На песке играем, — улыбнулась Агоака, кокетливо повернув голову.
Пота улыбнулся в ответ, сверкнул белыми, как гольцы на вершинах высоких гор, зубами. Идари стыдливо взглянула на него, сразу заметила усталость, осунувшееся лицо, непереплетенную, взлохмаченную косу.
— Рыбачил? — допрашивала Агоака.
— Острогой бил.
— Добыл много?
— Для нашей семьи хватит, да и соседям на талу останется.
— А брат твой Улуска без ветра, а шатается...
— И сегодня еще пьют? — встрепенулся Пота.
— Не знаю, видела — шатается, ноги по песку волочит.
Пота молчал.
— Уезжай. Если кто увидит нас здесь, что подумают?
«Ну, посмотри на меня, улыбнись, — внутренне подбадривала его Идари. — Хоть здесь не думай о домашних, пусть они пьют. Ну, ну...»
Пота словно услышал мольбу Идари, поднял голову, взглянул в упор и будто уколол в грудь; девушка почувствовала, как затрепетало сердце. С недавних пор, что-то около года назад, ее всегда стало охватывать волнение, когда она встречалась с черными, чуть нагловатыми глазами Поты. Почему-то в детские годы Идари не ощущала этого волнения, хотя десятки раз встречалась с Потой, наоборот, она даже злилась на него, когда он ломал построенные с любовью и фантазией песчаные дома, разбрасывал ее акоаны.
Идари два раза случайно встречалась с Потой, она и тогда ездила за дровами. После второй встречи девушка долго не могла прийти в себя. Пота обнял ее, поцеловал в глаза и говорил много хороших слов, он признался, что любит ее. Идари хотелось еще и еще раз услышать его признания, хотелось, чтобы он еще и еще обнимал ее и прижимал, но она пересилила себя и убежала. После, в ночной тиши, она с замирающим сердцем вспоминала о встрече, о Поте, сравнивала его с Чэмче Тумали и с другими парнями и находила Поту лучшим из всех.
«У него лицо белее, чем у других, коса толще и длиннее, глаза самые острые, он самый сильный, самый ловкий», — перечисляла она достоинства возлюбленного.
— Не гони меня, Агоака, — попросил Пота, — я пристал отдохнуть.
— Не ври, кто же пристает отдыхать, когда едет вниз по реке?
— Я пристаю.
— Знаю, зачем ты пристал, не маленькая. Идари, идем собирать дрова. — Агоака встала.
— Я вам помогу. — Пота вскочил на ноги.
— Помощнику мы рады, быстрее выедем домой.
Пота достал из оморочки маленький охотничий топорик и поплелся вслед за девушками в тальниковую рощу. Он рубил возле Идари сухостой и складывал в кучу. Девушка чувствовала на себе его горящие, зовущие глаза, краснела и низко нагибала голову.
— Идари, я тебя во сне вижу, — прошептал Пота. — Каждую ночь вижу.
Девушка обхватила длинные ветвистые жердины тальника и поволокла их на берег.
Акоаны — нанайские куклы.
— Не веришь мне? — с обидой в голосе спросил Пота, когда она вернулась.
— Верю, — выдохнула Идари, и малиновые пятна пошли по ее лицу.
Нота замахал своим игрушечным топориком, тремя ударами свалил толстое деревцо и вместе с ветвями, отдуваясь, поволок сквозь частый стоячий тальник. Вернулся, сел на сложенную кучу дров.
— Я хочу тебя каждый день видеть, я из окна за тобой слежу, для этого ножом дыру сделал в пузыре. Нарочно хожу мимо вашей фанзы.
— Не ходи, люди заметят...
— Не заметят, все ходят.
— Люди узнают, стыдно.
— Я женюсь на тебе, Идари! Ты согласна?
— Как отец, братья...
— Я нынче зимой на тори буду копить, и ты будешь моей женой. Ни на ком другом не женюсь и тебя другому не отдам.
— Отец, братья...
— Они согласятся, я знаю, они согласятся. Лето это, зима пройдут, и ты будешь моей женой. Я тори соберу, умру, но соберу! Отцу ни одной шкурки соболя не отдам.
— Эй, хватит вам шептаться! — крикнула Агоака. — Несите все на берег, хватит на лодку.
Пота помог погрузить дрова, сел на свою оморочку и уехал, провожаемый тоскующими глазами Идари. Агоака тоже смотрела вслед оморочке.
— Упрямый, храбрый охотник будет, — сказала она.
— А ты откуда знаешь?
— Знаю, на лице все видно. Ты скажи ему, пусть не ходит за тобой, отец заметит — беды не оберешься.
— Он не ходит за мной, откуда ты взяла?
— Ты совсем глупышка, ничего не видишь, что делается дома. У нас скоро свадьба будет. Наш Дяпа женится на дочери Гаодаги, Исоаке.
— Вот хорошо, нам веселее будет, молодая в дом наш войдет, — обрадовалась Идари.
— Веселее будет нам, а тебе придется в их дом перебраться.
— Как перебраться? Я не хочу.
— Дурочка. Исоаку отдали за нашего человека, за тебя, поняла? Женой Чэмче будешь — так отцы решили.
Идари с тоской и болью посмотрела вслед удаляющейся оморочке, и, переплывая протоку, она на этот раз не зажмурила глаз, а смотрела на спешившую к морю воду, на шумевшие, втягивающие в себя всякий мусор, охлопья пены ненасытные воронки; у нее кружилась голова, ослабевшие руки опускали весло, но она смотрела на воду широко открытыми глазами.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В большом доме Баосы справляли свадьбу, справляли невесело, без старинных обычаев, не выставляли напоказ мужнино тори, приданое жены, и няргинцы недовольно шушукались:
— Жаднюги, почему не показывают тори? Думают, мы от зависти умрем?
— А приданое какое?
— Нет никакого приданого.
— Какая свадьба без тори? Женщины совсем обесценились, что ли?
— Не знаете — молчите, у них обмен.
Невеста в богатом свадебном наряде, сопровождаемая двумя подругами в таких же нарядах, почти бегом, опустив голову, перешла из своего дома в мужнин, преподнесла чарочки водки родителям мужа, потом своим, переменила халат и побежала на берег по воду. Все это не походило на свадьбу, зрители остались недовольны тем, что невесту не привезли на лодке, что она не выполнила обычный обряд вхождения в дом мужа. А молодой жених тем временем с бутылкой водки обходил гостей, а так как в кругу были только охотники старше его, то ему приходилось на коленях переходить от одного к другому и бить лбом поклоны об отвердевший, словно камень, глиняный пол. Старики брали в дрожащие руки чарочку, смочив указательный палец в водке, брызгали в четыре стороны света, бормотали, обращаясь к эндури:
— Оберегай их, Ходжер-ама, от всех болезней и несчастий, пусть растут, живут здоровыми, детей плодят...
Эндури — бог.
Ходжер-ама — Ходжер-отец.
Выпивали чарочку с наперсточек, оставляли полкапельки на донышке на счастье молодым, притягивали жениха за шею и целовали в тугие щеки, щекоча редкими бороденками, в которых что ни волос, то подходил для петли, и никакой двужильный соболь не оборвал бы ее. А сосед в это время смотрел на плескавшуюся в бутылке водку и ждал, когда дойдет и до него очередь.
Два пасмурных дня няргинцы выпивали за здоровье молодых.
— Хорошие дни: мух, оводов нет, не мешают веселью, — скалил зубы Ганга.
— Да, верно, когда уснешь на улице, мухи не станут щекотать нос, — хохотал Холгитон.
Два дня спустя после свадьбы стойбище Нярги опустело, осиротело, в душных фанзах осталось несколько немощных стариков, беззубых, согнутых коромыслом старух да малыши неразумные, от которых еще нечего было ждать помощи. Охотники с женами, со старшими детьми разъехались кто куда. Холгитон с женой, прихватив Гангу с Улуской, на одной лодке спустились в русское село Малмыж косить сено для торговца Терентия Салова. Большой дом Баосы тоже опустел, только глава дома остался со старушкой да малыми внуками и внучками, а их родители уехали на Джалунское озеро заготовлять бересту, охотиться на пантачей — изюбров.
Полокто и Пиапон ехали впереди на оморочке, а Дяпа держался возле лодки, на которой находилась его молодая жена Исоака.
— Боится отойти, думает, потеряется жена в лодке, как серебряная монета, упадет в щель, — заявила жена Пиапона Дярикта.
— Не обтерлись еще, молодые, — проговорила жена Полок-то Майда.
Женщины сидели друг за другом на веслах, насмешливо посматривая на размеренно махавшего двухлопастным веслом Дяпу. Агоака, Идари, Исоака со старшим сыном Полокто, Ойтой, кучились на середине лодки, судачили о своих делах. Верховодил над всеми женщинами сын Баосы, Калпе, он, как единственный мужчина в лодке, обязан был править.
— Дядя, а дядя, — перегибаясь через борт лодки, тянулся Ойта к Дяпе, — скажи, ты сможешь обогнать нашу лодку, если мы все враз будем грести?
— Обгоню.
— А ну, попробуй.
Дяпа делал четыре-пять резких сильных гребков, и оморочка на целый корпус уходила вперед лодки.
— Мама! Тетя! Гребите сильнее, догоним дядю! — кричал мальчик.
— Ты же мужчина, если хочешь потягаться силой с дядей, сам садить на весла, — смеялись женщины.
Снохи Баосы, будто позабыли о недавней ссоре, рука об руку хлопотали дома по хозяйству, разговаривали, выпивали вместе на свадьбе Дяпы. Все домашние предполагали, что женщины помирились, и никто не догадывался, что каждая из них прятала выдранные при драке клочья волос в берестяной коробке и всякий раз, меняя белье и взглянув на клубок волос, вновь припоминала позорную драку. Дярикта, скрежеща зубами, клялась оторвать тяжелую косу Майды, а Майда задумывалась и перепрятывала клок волос в другой угол под белье.
В полдень лодка добралась до озера Шарга. На гористой стороне у горловины стояло несколько рубленых русских изб, с изгородями, огородами, с загонами для скота. На берегу стоял рыжий широкоплечий парень с голубыми глазами, с курчавой молодецкой бородкой.
— Иван, дорастуй! — закричал Калпе, направляя лодку к берегу. — Чего тебя стой? Ай, Иван, твоя голова, волоса вокруг губа точна, как у лиса. Ризая-ризая. Пуснина мозна сдавать. Лиса, лиса, а фамили Зайча, как так?..
— Ты, Калпе, чевой-то разговорчивый больно, — ухмыльнулся Иван Зайцев. — Перед девками, что ли, выхваляешься?
— Девка, какой девка? Сестры да женщины брата Полок-то, Пиапона и Дяпа. Вон они, — указал Калпе на уплывающие от них оморочки.
— На охоту отправились?
— Охота, охота, а баба береста варить будут, котел брал.
— Скажи братухам, изюбра нет на речках, давеча я ночевал.
— Панты добыл?
— Говорю, нет.
— Тайга больсой, изюбр есть, как его нет? Есть, твоя только не знай, где он.
— Омманываю, думаешь? Езжай, увидишь.
— Я знаю, ты не омани. Охотиса зимой будем?
— А что еще делать зимой? Будем, конешно.
— Ну, ладна, мы поехали. До сидания, Иван Зайча.
Калпе за руку попрощался с Иваном Зайцевым и оттолкнул лодку.
— Видели, какие волосы у моего друга? — спросил он, улыбаясь, у женщин. — Как огонь волосы.
— Нет, как огненная тайга, — засмеялась Идари.
— А-я-я, Калпе, как ты складно и быстро говоришь по-русски, — похвалила Дярикта. — В нашем доме ты один тан бойко умеешь разговаривать с русскими.
— Не хвали, второй брат, твой муж, лучше меня говорит, — ответил Калпе.
Ветер, дувший с утра с низовьев Амура, круто переменился: не определишь, то ли низовой, то ли верховой. Калпе развернул парус, закрепил его, и лодка устремилась по озеру, хлопая о волны плоским днищем. Ойта на ходу вырывал широкие, лоснившиеся на солнце листья кувшинок, связывал вместе их длинные стебли, и вскоре за лодкой летел, перепрыгивая с волны на волну, караван зеленых судов.
Солнце еще висело высоко над возвышавшейся на западе грядой белошапочных гольцов, когда лодка пристала возле устья небольшой, но стремительной горной речки. Мужчины помогли женщинам поставить берестяную летнюю юрту — хо-маран, поели вместе с ними и выехали вверх по узкой речушке.
— Калпе, сети не забудь поставить, иначе голодные останетесь, — сказал, прощаясь, Полокто. — Да дров но жалей, когда будешь парить бересту. Не спеши, хорошо отпаривай.
— Ты за всем смотри, ты же один мужчина, — сказал Дяпа.
— Если боишься за жену, останься, — рассердился Калпе. — Спи здесь да бересту парь, а я поеду за тебя.
Один Пиапон не промолвил ни слова. Оморочка его из бересты, легкая, прочная, с веселой песней разрезала несущуюся навстречу воду. Второй год верно служит ему оморочка, на ней он плавал по озерам, протокам, по широкому Амуру, привозил на ней убитых лосей, изюбрей, косуль, но ни в одном месте не лопнула прочная береста, не разошлись швы и не дали течи. Хороша берестяная оморочка, но Пиапон все чаще и чаще возвращается к мысли завести деревянную, сбитую из досок. Еще ни у кого из нанай на Амуре нет деревянной оморочки, но Пиапон думает, она будет не хуже берестяной, более остойчивой, чтобы могла поднять одного среднего лося. Если не нынче, то в следующем году надо попытаться достать у русских доски и сколотить оморочку.
Речушка, то расширяясь, то сужаясь, петляла по лугам, потом прижалась к пологой сопке, но вскоре опять вышла на луга с редкими островками леса. Встречались тихие заливчики, заросшие кувшинкой, стрелолистом и лакомством лосей, изюбрей — трехлистником-вахтой. Трава на берегу таких заливчиков была вся измята, земля ископычена.
— Ага, следов много, — вполголоса проговорил Дяпа, догоняя Пиапона.
Ага — брат.
— Есть.
— А красноволосый Иван говорил Калпе, будто зверя нет.
— Видно, ослеп.
— Где мне лучше переночевать?
— Можешь вместе со старшим братом.
— Дай ага, ты где остановишься? — спросил Дяпа у Полокто.
Полокто подъехал к уткнувшимся в густую пахучую траву оморочкам, закурил, разглядывая сопки, зеленую тайгу. Комары надсадно звенели над головой, птицы голосили вечернюю песню перед сном.
— У меня руки побаливают, я далеко не поеду, — наконец ответил Полокто. — Здесь тоже кое-что можно встретить. Ты, Пиапон, куда думаешь ехать?
— Выше Поперечной редки, к Лосиному озеру. Полокто мысленно измерил расстояние — далеко.
— Всю ночь думаешь ехать?
— Посмотрю.
— Я тогда с тобой поеду, — глядя на Пиапона, сказал Дяпа. — Ты меня где-нибудь на середине оставишь.
— Места хватит.
Пиапон оттолкнул оморочку и неторопливо, размеренно замахал веслом. Вода опять зажурчала под носом оморочки, и Пиапон подумал, что оморочка довольна прохладой речки, хорошим вечером, поэтому поет веселую песню, вторя замирающей песне птиц. Тайга, луга скоро уснут, только будут хором петь комары и мошки.
Полокто остался и, что-то разленился, последнее время все морщится, по ночам стонет — болеет или притворяется. Рано он дедушкой сделался, рано собрался на покой, теперь он может не стараться на охоте и рыбной ловле, где детей прокормят не обремененные пока своими детьми Дяпа и Калпе, ведь в большом доме все делится поровну. Интересно, как он вел бы себя, если б ему пришлось жить отдельно? В тридцать лет сделаться стариком — этого Пиапон никак не может представить, ведь ему тоже через год будет тридцать лет — так выходит по подсчетам отца и матери. Он, говорят, родился в год лесного пожара, а Полокто — в год мелководья, когда русские дымящие лодки, как ракушки на песке, садились на мели и, завидев другую лодку, ревели, как десять медведей.
Дай ага — старший брат.
По нанайской родословной самого старшего дядю племянники и племянницы зовут дедом. В большом доме Баосы два деда — сам Баоса и Полокто.
В детстве Полокто часто дрался с младшим братом — в этом ничего удивительного нет, братья должны драться, но, став охотником, он перестал драться, и долгие годы Пиапон не слышал от него плохого слова. Когда после женитьбы у него стали появляться одни мальчики, он сперва радовался, потом усмехаясь, признавался, что хочет дочь, чтобы выдать замуж и хорошо выпить на ее свадьбе.
— Сыновья приносят в дом мясо и рыбу, а дочери — водку, — говорил он.
А у Пиапона рождались одни дочери, и он испытывал огорчение и непонятное смущение: дочери, конечно, тоже люди, они, верно, поят отцов водкой, но потом сразу становятся чужими людьми, они не могут продолжать род Заксоров, будут плодить каких-то Бельды, Киле, Ходжеров. Пиапон хотел сына, только сын может продолжить свой род. Два года назад, когда у Пиапона родилась третья дочь, Мира, Полокто при всех снял бечевку, которой подвязывал штаны, и протянул брату. Пиапон, не веря глазам, смотрел то на крученную из конопли тоненькую бечевку, то на брата.
— Меняться будем, — сказал Полокто.
Это значило, что Полокто добровольно отдает свое счастье на сыновей Пиапону, а у него просит его счастье на дочерей. Братья обменялись бечевками — подвязками.
Старший брат, второй дед в большом доме, был хотя и вспыльчив, как отец, но при решении важных семейных вопросов сдерживал себя, не гневался зря, не кричал и с мнением большинства мужчин всегда считался. Только в последнюю зиму и весну он разлепился, возомнил себя второй главой большого дома, но Пиапон не позволит ему кичиться и лениться, он все же не кто-нибудь, а де могдани, его слово иногда бывает весомее слова главы дома. Если что произойдет, Пиапон отделится от большого дома, ему и так тяжело слушать ругань женщин, он знает, что в большинстве случаев скандалы возникают из-за невоздержанности на язык его жены, поэтому ему вдвойне тяжелее.
Размышления Пиапона прервала косуля, она выскочила из травы на берег речушки, повертела точеной головкой туда-сюда, попрядала ушами и, заметив оморочку, длинными прыжками поскакала в тайгу. Вскоре из зеленой чащи раздался оглушительный рев, похожий на рев медведя.
— Сама сперва испугалась, а теперь спохватилась, — усмехнулся Пиапон. — Пугай, пугай.
Над речкой опускались темно-синие сумерки, отдаляя черневшие островки релок, приближая и увеличивая размеры кленов и лип, разлохмаченные прибрежные кусты и низкорослые кривые березки и осины. Тайга засыпала, ее тревожили только редкие вопли пугливых косуль, пронзительные крики ночных птиц. Гомон комаров и мошек будто заполнил все пространство между небом и землей. Пиапон изредка отгонял от лица насытившихся, растолстевших комаров, давил их, черно-красные пятна исполосовали его лицо, шею. Он подъехал к берегу, пригнул толстый пучок травы, прижал его ногой к борту оморочки и неторопливо стал сворачивать из крошеного и листового табака толстую цигарку. Позади него, за кривуном, раздавались всплески воды и легкое постукивание маховика о борт оморочки.
— У меня оморочка тяжелая, — оправдывался догнавший его Дяпа. — Ох и летишь ты — не угнаться.
— Не гонись, езжай как можешь. — Пиапон вложил цигарку в трубку, высек огонь кресалом, закурил. — Не шуми, за каждым кривуном кого-нибудь можно встретить.
— Далеко еще? — Дяпа нагнулся к брату, прикурил от его трубки.
— Далеко. Ты можешь переночевать отсюда за двумя кривунами, место хорошее, трехлистника много.
Братья молча курили, прислушиваясь к ночным звукам. Темень вороньим крылом прикрыла землю, закутала ее в черную ткань. Недалеко в тайге хрустнула сухая палочка под чьими-то осторожными ногами, прокричала какая-то птица.
— Отсюда поедем на мэлбиу, — сказал Пиапон. — Если отстанешь — не спеши, я буду знать, где ты находишься. Услышишь крик филина, останавливайся и переночуй.
Пиапон взял в руки мэлбиу, отпустил траву и бесшумно отъехал от берега. Несколько сильных гребков — оморочка набрала скорость, и Пиапон, не вынимая мэлбиу из воды, короткими взмахами повел оморочку по еле уловимой водной дорожке. Отъехав немного, он прислушался, и ему показалось, что капли дождя стучат по цинковой крыше малмыжского торговца Терентия Салова: так громко звенели капли воды, стекавшие с мэлбиу Дяпы, когда он замахивался ими для следующего гребка.
Мэлбиу — короткие, напоминающие обоюдоострые мечи, однолопастные весла.
«Очень спешит», — подумал недовольно Пиапон.
Пиапон любил ночную езду, тишину до звона в ушах, непроглядную темень, даже комары и мошки были ему в это время терпимы. Тишина, к которой он всегда стремился в жизни, как ничто другое подходила к его нелюдимому характеру, и потому он дружил с ней. А в темноте он, как говорил сам, заострял глаза, ему казалось, что, если он часто будет охотиться, глаза его станут зорче, и, возможно, даже ночью он будет видеть, как видят кошки. Пиапон так внушил это себе, что временами ему казалось, будто он и на самом деле видит в непроглядной темени деревья, даже их ветви, различает кусты.
Проехав несколько кривунов, Пиапон прислушался: в ушах звенела ночная тишина, нарушаемая назойливым писком комаров. Долго прислушивался охотник и все же уловил приглушенный расстоянием стук мэлбиу о борт оморочки. Пиапон прокричал филином и поехал дальше. В полночь он был на Лосином озере, вытащил оморочку, натянул накомарник и лег, положив рядом ружье. Усталые руки и плечи ныли, глаза сами смыкались. Пиапон засыпал, когда раздался оглушительный выстрел и, удесятеренный эхом, покатился клубком по тайге. Пиапон слышал, как пуля хлюпнула о что-то мягкое, он прикинул время между выстрелом и хлюпаньем пули: выходило, что неизвестный охотник в такую темень стрелял на расстоянии не меньше пятидесяти шагов.
«Кто же такой? — подумал Пиапон. — Когда он поднялся выше меня? Видно, русский с озера Шарга. Кошачьи глаза у этого охотника, видел зверя, когда стрелял, по слуху не попал бы — пятьдесят шагов, не меньше».
Утром Пиапон сидел в росистой траве, наблюдал за рассветом, за восходом солнца, слушал, как пробуждается земля от сна. Видел он несколько косуль, видел, как черный лось с ветвистыми рогами вышел из тайги к озеру, потом другой, трехгодовалый бык, с ходу прыгнул в воду и с хрустом жевал любимый трехлистник, и охотник слышал, как вода с серебряным звоном скатывалась с мягких лосиных губ.
Пиапон ждал изюбрей, ему нужны их драгоценные панты, а с лосей что возьмешь, кроме мяса. Но изюбры не шли на озеро.
Солнце поднялось высоко, его лучи слизывали огненным языком росу с трав, деревьев, согревали застывшие кусты. Звери попрятались в густой зелени тайги.
Пиапон решил подняться выше по речке, посмотреть на удачливого охотника с кошачьими глазами. За двумя кривунами он встретил его. Это был Пота, сын пьянчужки Ганги.
— Ты ночью стрелял? — только спросил Пиапон.
Пота сидел возле костра, в котелке кипел заваренный листом винограда чай.
— Я стрелял, — ответил Пота, снимая котелок.
— Не думал тебя встретить.
— Я вчера рано утром из дома выехал.
— Опередил нас, мы тоже всей семьей приехали поохотиться, а женщины и Калпе бересту готовят.
— Все женщины приехали? — Пота весь подался к Пиапону.
— Все, только мать наша дома осталась.
— Они здесь, на речке?
Пиапон взглянул на молодого охотника и усмехнулся:
— В устье. Не за моей ли женой ты, а?
Пота потупил глаза, покраснел.
— Да я так, про Калпе хотел узнать.
Пиапон прикурил угольком от костра и с наслаждением затянулся.
— Ты что же это, убил кого-то, а мясо не варишь?
— Ничего я не убил, зря только порох пожег да свинец в тайгу пустил.
— Как зря?
— Промазал.
— Видел, когда стрелял?
— Что-то чернело, больше ушами метился.
Пиапон недоверчиво взглянул на юного собеседника, встретился с его дерзкими глазами.
— Где он стоял?
Пота указал место. Пиапон глазами измерил расстояние — да, он был прав — не меньше пятидесяти шагов.
— Ты попал, я слышал твой выстрел. Свинец задел зверя. Место осмотрел?
— Осмотрел. Крови нет.
— Пойдем, покажи, где стоял он. Лось, изюбр?
— Не знаю, шаги были легкие, может, изюбр, может, двухгодовалый лось.
Пиапон, нагнувшись, рассматривал следы копыт, измятую траву, он словно принюхивался к листьям и стеблям, стараясь обнаружить запах крови. На свой вопрос, с каким зверем имел дело Пота, он сразу сам ответил, только мельком взглянув на след. Пота стрелял в изюбра. Растопыренные копытца зверя подтверждали, что пуля Поты смертельно ранила его. Пиапон все это рассказал молодому охотнику и повел его по следу, из десятков лосиных, изюбриных копыт находя копытца раненого зверя.
Изюбр, высокий, поджарый, красавец с холеной шерстью, добрался до родной тайги, споткнулся о поваленное бурей дерево, свалился на другое, свесив голову с драгоценными пантами. Умирая сам, он оставил панты невредимыми, целехонькими для человека, который и убил его только ради этих кровяных рогов.
— Отец Миры, я... — обрадованный Пота, увидев панты, не находил слов от радости. — Я один не нашел бы, я думал, промазал, искал и не нашел. Брат Идари, панты пополам с тобой, я...
Пиапон снисходительно смотрел на сияющее лицо Поты и улыбался.
— Хорошие панты, очень дорогие. Пополам, говоришь? Нет, я не возьму.
Пота удивленно уставился на него.
— Все, да? — только выдавил он.
— И все не возьму, — ответил Пиапон и подумал: «А Полокто, наверное, забрал бы половину».
— Они так и так пропали бы, если бы не ты. Нет, половину возьмешь, — обрадованный тем, что Пиапон не берет панты целиком, зачастил Пота.
— Оставь себе, тебе жениться надо, эти панты целое тори стоят.
Пота вдруг вспомнил нежные глаза Идари, белое круглое ее лицо, толстые тугие косы, и теплая волна захлестнула его.
«Брат сам намекает! Идари! Идари, ты будешь моей женой! Слышишь? Моей!»
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Весь день Пиапон с Потой разделывали изюбра, колдовали над пантами, обваривая их в кипятке. Мясо изюбра не выдержало бы и двух солнечных дней, поэтому охотники решили его закоптить. Пока Пиапон разделывал тушу зверя, отделял мясо от костей, Пота в двух котлах варил лучшие куски изюбра и его голову. Потом он забил в землю несколько кольев с рогульками и пошел рубить жердинки на перекладины.
Младшие не должны старших звать по имени потому и зовут: «отец Миры», или «муж Дярикты», или «брат Идари».
Пиапон закончил разделывать тушу, возле него красной горкой лежало мясо на зеленой травяной подстилке, а рядом тут же белели кости. Пиапон закурил трубку и наблюдал, как молодой охотник на жердинках развешивал мясо, разжигал под ним большой костер. Он, довольный, улыбался, когда Пота стал накладывать на трепетавшие языки огня зеленые ветви тальника, вспомнив, как он сам в молодости впервые коптил мясо ветвями осины, как потом все домашние отказывались от его копченки, потому что она получилась горькой, будто он нарочно облил ее лосиной желчью.
«Охотником хорошим станет», — подумал Пиапон и спросил:
— Ты раньше коптил мясо?
— Нет, не приходилось. Только видел, как это делают.
— Так уверенно все делаешь, я подумал, ты уже десяток лосей закоптил, — не удержался от похвалы Пиапон.
Потом они ели мясо, хватая его зубами и лихо обрезая возле самых губ, охотничьими топориками дробили голенные кости и высасывали розовый сладковатый мозг. К вечеру, когда, насытившись, они прикорнули под тенью кустов и уснули сторожким сном, подъехал Дяпа.
— Одному надоело без дела сидеть, потому приехал, — оправдывался он, доедая оставшееся вареное мясо.
— Не хитри, — смеялся счастливый Пота, — услышал ночной выстрел, унюхал кровь, как ворон, потому и приехал. Сознайся лучше. — Пота мог шутить с Дяпой, они были почти ровесники, Дяпа старше его всего на два года.
— Я думал, ага стрелял, приехал посмотреть...
— Чего к жене не съездил, успел бы, — скрывая улыбку, сказал Пиапон.
Вечером Пиапон, оставив молодых охотников, поднялся еще выше на три кривуна. Речушка в этом месте так сузилась, что трехметровый маховик охотника при гребке касался обоих берегов, шелестел сочной тугой травой. До глубокой ночи караулил таежник, прислушиваясь к лесным звукам, по шелесту крыльев узнавая птиц, по шороху травы, по ломкому хрусту веточек угадывая зверей. Утром, когда солнце поднялось над сопками, Пиапон увидел изюбра. Таежный красавец медленно вышел из-за белых стволов осин, остановился среди низкого кустарника и, настороженно принюхиваясь, стал оглядываться по сторонам. Не заметив опасности, изюбр с высоко поднятой головой зашагал к речке, он шел прямо на дуло ружья спрятавшегося за кустарником охотника, но потом вдруг повернул влево и скрылся в серебряных брызгах воды.
«Озеро там? — удивился Пиапон. — Да, есть, кажется, с вороний глаз озеро».
Пиапон стал осторожно подкрадываться к озерку, делая несколько быстрых шагов, когда изюбр окунал морду в воду, и замирал как пень, когда зверь поднимал голову. Таежник подкрался на пятьдесят шагов, и утреннюю тишину распорол гром выстрела. Птицы затихли в кустах, оглушенные внезапным громом. Изюбр прыгнул вверх, будто хотел уйти в голубеющую небесную даль от земной боли, потом уронил пробитую пулей голову на охлажденную ночными звездами воду, и вода в тот же миг окрасилась в красный цвет.
«Хорошо, панты на воде всегда целы остаются», — подумал удовлетворенно Пиапон.
Освежевав пантача, охотник взвалил на себя половину туши и отнес в оморочку, вторым заходом он приволок остальное. Вялое течение неторопливо понесло на своей спине нагруженную мясом берестяную лодчонку.
Дяпа с Потой свежевали только что убитого большого, с ветвистыми рогами черного сохатого — быка — и с жадностью ели куски сырой печени и почек. Пиапон тоже отведал этого лакомства, помог погрузить мясо на оморочки, и они тронулись в обратный путь. После полудня, когда небо покрылось черной тучей и ливень обрушился на изжаждавшуюся землю, охотники были на устье речки. Не успели они выйти из оморочек, как к ним подбежали женщины в развевающихся широких халатах. Первой прибежала Идари, мельком взглянула на братьев и удивленно уставилась на Поту.
«Откуда ты появился?» — спрашивали ее глаза.
Пота видел, как крупные капли дождя безжалостно секли ее милое лицо, ветер хлестал по жгучим глазам, вода тонкой струйкой стекала с пухленького подбородка на расшитую грудь будничного халата. Пота выпрыгнул из оморочки и встал с ветреной стороны, прикрыв девушку, но дождь продолжал бить любимую по лицу, ветер трепал волосы, и в это время Поте, как никогда, захотелось быть высоким и широким, как кедр, чтобы заслонить ее собой.
— Я пантача свалил, — прошептал счастливый Пота, но тут же отскочил от девушки, услышав ядовитый голос Дярикты:
— Смотрите, смотрите, Идари даже братьев не встречает, все у оморочки Поты вьется.
— Тебе-то что, надо кому-то парню помочь, — резко перебил жену Пиапон.
Пока носили мясо к берестяной юрте — хомарану, — прошла гроза и выглянуло свежее, словно умытое дождем солнце. Охотники сняли халаты, отжали воду и повесили на кустах сушить. В это время приподнялась прикрывавшая вход в юрту камышовая циновка, и оттуда вылез отоспавшийся, бодрый Полокто. Увидев гору мяса, он осклабил зубы в улыбке:
— Удачная была охота, хорошо, что выше поднялись, остались бы со мной — ничего не увидели бы. Что встретили?
— Мы с Потой изюбрей встретили, а Дяпа — лося, — ответил Пиапон.
— Пантачи?
— Пантачи.
— Эй, женщины, один котел можно освободить, мясо варите, лучшие куски варите, — приказывал Полокто.
— Ты когда вернулся? — спросил Пиапон.
— Что мне там делать? Зверя нет, я на другое утро вернулся.
В сторонке от юрты кипели два широких чугунных котла, в них стояли свернутые трубы бересты, клубился пар, как из труб, русских железных лодок. А вокруг котлов, в травах, в кустарниках, белела, как лебяжий пух, берестяная мездра. Пиапон прикинул на глаз кучу отпаренной бересты и ту, которая отпаривалась, — выходило едва-едва на два летника-хомарана.
— Чем зря комаров там кормить, я решил бересты больше заготовить, — продолжал Полокто.
— Здесь всего на два летника хватит.
— Нам две юрты надо — мне и тебе.
— А как Дяпа? Он женился...
— Ничего, в старом проживет...
Пиапон подошел к куче отпаренной бересты, помял толстые желтые куски, они были мягкие, как лосиная кожа, средней обработки. Майда с Агоакой, обжигаясь, сняли с котла толстую берестяную трубку, и Пиапон на глаз определил, что береста недопрела, слишком груба и жестка и сразу же растрескается, как только начнут ставить юрту.
— Лучшая береста, сам снимал с деревьев, для твоего хомарана старался, — подмасливал Полокто.
— Может, мне ту кучу отдашь?
— Бери, если хочешь. Чего нам делить, мы в одном большом доме живем.
«Зачем я все время о нем плохо сужу? — подумал Пиапон. — И верно, в одном доме живем, все, что есть у нас, — все наше поровну».
— Береста никогда не бывает лишней, — сказал он вслух, — будем еще готовить.
Женщины, настороженно прислушивавшиеся к разговору братьев, согласно закивали головами: кому, как не им, больше всех нужна береста? Туески для ягод, матаха для разделанной рыбы и для отсеивания от ягод мусора, туески для храпения круп, соли и других продуктов, шкатулочки, коробки для белья, для тканей и различная посуда для еды — все это женщины готовят из бересты.
— Вот хорошо! Ага, мы еще дней десять проживем здесь! — воскликнула Идари, бросив быстрый взгляд в сторону беседовавшего с Калпе Поты.
А Исоака будто нечаянно прикоснулась к руке мужа и прошептала:
— Ты не ходи на охоту, отдай оморочку и ружье Калпе.
Дяпа, осчастливленный вниманием молодой жены, готов был остаться с ней хоть на весь год в глухой тайге, ни с кем не встречаться, только слушать ее птичье щебетанье и ощущать ее близость.
Еще десять дней мужчины и женщины бродили по тайге и снимали с деревьев бересту. Возле хомарана днем и ночью горел огонь под двумя черными котлами, свернувшаяся в трубы кора набухала от пара. Вечерами охотники уезжали на ближайшие озера и просиживали в карауле, откармливая голодных комаров до подъема солнца.
Пота остался с заготовителями, для виду собирал бересту, как и все охотники, выезжал на выслеживание зверей, но после вечерней зорьки возвращался на стан и просиживал возле котлов до утра, подбрасывая дрова в ненасытный огонь. Он несколько раз встречался с Идари, но не мог ей высказать свои сердечные чувства, потому что всегда с ними рядом не ко времени оказывалась Агоака, она уверяла, что приходит слушать сказки Поты.
«Дура, стал бы я сказки рассказывать, если бы не было тебя рядом», — сердился Пота, но все же начинал новые сказки, больше о том же молодце-баторе, который громил стойбища своих врагов, женился на их дочерях и на шаманках.
Только однажды Поте удалось вдвоем с Идари прокоротать теплую июльскую ночь. Молодой охотник нетерпеливо тогда обнял и прижал к себе дрожавшую, как талинка на ветру, возлюбленную.
— Увижу я тебя, ноги мои начинают дрожать, грудь начинает распирать, будто что там внутри набухает, — шептал он, стараясь унять охватившую его дрожь. — Я тебя люблю, слышишь, Идари, я тебя люблю! Хочешь я сейчас начну палить из ружья по звездам, хочешь? Хочешь я сейчас закричу, буду кричать на все озеро, на всю тайгу, на всю марь, что я тебя люблю? Пусть все знают о моей любви!
— Не надо, не стреляй, не кричи, — шептала Идари, закрыв глаза. — Люди услышат, что скажут?
— Если ты меня любишь — я ничего не боюсь, пусть братья твои узнают...
— Не надо...
— Ты не любишь меня? Не любишь?
— Зачем так говорить? Сам знаешь, ты же мужчина, — Идари спрятала лицо на груди юноши, — я о тебе всегда думаю... Но отец меня отдает другому.
— Кому? Почему? — встрепенулся Пота. — Я... нет, я тебе не разрешу, слышишь? Как ты?
Пота вдруг вспомнил свадьбу Дяпы, вспомнил услышанный тогда и не встревоживший его разговор об обмене женщинами между семьями Баосы Заксора и Гаодаги Тумали. По юношеской самонадеянности он был уверен, что если он любит Идари, то отец не посмеет ее отдать другому — нелюбимому. Уверенность его подкрепляло и то обстоятельство, что старшая, Агоака, еще не вышла замуж, а, по обычаям, Идари не могла покинуть отчий дом раньше старшей сестры. Выходит, старый Баоса хочет преступить дедовские обычаи, хочет отдать Идари за тонкошеего Чэмче, и Чэмче будет обнимать, ласкать его возлюбленную!
Пота в отчаянии обнимал тонкий девичий стан любимой, не слышал, как хрустели ее косточки, не видел ее обкусанных припухших губ.
— Нет! Не отдам я тебя, слышишь, не отдам я тебя Чэмче. Не отдам!
— Я не хочу к нему...
— Не отдам, не отдам.
Пота будто позабыл другие слова и в горячке повторял одно и то же. Потом он очнулся, отпустил девушку и уставился немигающими глазами в потухающий костер. Идари с испугом глядела на его незнакомое, красное при отсветах углей лицо и испуганно отодвинулась.
— Что делать? Отец... он как повелит...
— Когда он хочет отдать? — прохрипел Пота.
— Не знаю, я ничего не знаю.
— Я не отдам тебя Чэмче, я добуду на тори, у меня уже есть панты, семиотростковые, самые дорогие, так говорит твой брат. Я еще добуду панты, зимой без отдыха буду бегать за соболями, мне поможет эндури, я принесу в жертву черную свинью. — Пота отвернулся от огня, встал на колени в сторону розовеющей на востоке зари и продолжал: — Это я обещаю, пусть слышит всезнающий, всемогущий эндури, я обещание выполню, только Идари отдайте мне, отдайте мне в жены...
— Не обещай, нельзя... тори добудь, — прошептала испуганная Идари. — Что будет, если но выполнишь?
— Отец твой если подождет до весны, то я выполню, пусть он подождет, я принесу тори вдвое больше, чем Чэмче.
Идари испуганно жалась к котлу, она не хотела слышать клятву Поты: ей казалось, она тоже будет в ответе, если Пота не выполнит свое обещание.
«Эндури-ама, не слушай его, он с горя говорит, — шептала девушка, подкладывая дрова на тлевшие угли. — Ты же знаешь, видишь, как они живут, у него отец пропивает всю добычу. Не слушай его... Он хороший, но не слушай...»
Пота поднялся на ноги и зашагал к оморочке — он с этой зорьки решил приняться за кропотливое собирание богатства на тори. В оставшиеся дни он бил то лося, то косулю и коптил мясо, засыпая от усталости возле густо дымящих костров. Неудачливый Полокто лакомился почками, печенью и мозгами, до сахарной белизны обгладывал кости и похваливал молодого охотника:
— Удачливый охотник, ловкий. Тебе что, на ружье звери бегут, что ли? Слышите, нэвуэнэ, в наш бы большой дом такого охотника, он вдвоем с Пиапоном всех бы прокормил.
Пота отворачивался от разговорчивого Полокто и, будто по делу, отходил от костра.
— Что с тобой, Пота? — допытывался его друг Калпе, который ездил его напарником вместо Дяпы. — Ты почему мало стал говорить? Шутить не шутишь.
— Пота, когда дорасскажешь сказку? — приставала Агоака, хитро посмеиваясь. — Твой мэргэн женился только на двух шаманках, он еще не добрался до врагов отца.
Пиапон, как всегда, молча просиживал у костра, задумчиво сосал клокотавшую трубку и только однажды спросил:
— Зачем тебе столько мяса? На зиму уже готовишь?
— Нет, русским буду продавать.
— Продавать? Для продажи губишь столько лосей?
— Деньги нужны, — с неожиданной злостью ответил Пота.
Пиапон исподлобья глядел на молодого таежника и думал:
«Отец все пропьет, зря стараешься на его желудок».
Эндури-ама — бог-отец.
Нэвуэне — младшие братья.
Мэргэн — сказочный богатырь.
Заготовители вернулись в стойбище с богатым запасом бересты, с толстыми кругами гибких корней, которыми женщины сшивали туески, края матаха и коробок. Привезли они и копченого мяса.
Мать Поты, обливаясь потом, носила в пустой, пахнущий мышами амбар связки копченки, туески белого комкастого сохатиного сала.
— Как отец обрадуется, когда увидит мясо, — шепелявила она беззубым ртом. — А я только глазами ем, десны болят.
Пота в берестяной коробке спрятал драгоценные панты под свое изголовье, за загнутой к степе циновкой. Отдохнув, он прихватил желтые черепа лосей, изюбра и понес в зеленую рощу. Колючие кусты царапали руки Поты, но он продирался сквозь них к невысокой сухой дикой яблоньке, на сучьях которой висели выбеленные солнцем, обдутые ветрами, прополосканные дождями, белые черепа медведей и принесенных в жертву эндури свиней. Это было семейное священное дерево — пиухэ. Пота знал, что на пиухэ не развешивают черепа лосей, изюбрей, но ему лестно было посмотреть, как будут выглядеть черепа впервые добытых им зверей. Он встал на колени, помолился священному дереву, повторил клятву и развесил черепа.
«Богатое дерево, — думал он, разглядывая пиухэ со стороны. — Сразу видно — охотничья семья владеет этим священным деревом».
На следующий день вернулись отец с Улуской в лодке Холгитона. Все они были навеселе.
— Мы траву косили богатому русскому. Как его, Улуска, зовут? Эти русские имена не выговоришь, — начал рассказ Ганга, как только переступил порог фанзы.
— Пиапон Митрич, — подсказал Улуска.
— Вот-вот, Пиапон. Богато живет, нас хорошо кормил, за траву деньги заплатил, мы на эти деньги крупы купили, сахару, водки Улуска набрал. Много водки, хорошо.
— Ама, эту водку не будем пить. Как мы говорили, так будем делать, — сказал Улуска.
— Чего ждать? Зачем ждать? Чем быстрее, тем тебе же лучше. Так, я что-то забыл, мама, можно днем идти свататься?
— Ты что, все на свете уже позабыл? — прошамкала старушка. — Свататься можно только вечером, после захода солнца.
— Вот слышал, Улуска, вечером надо. А сегодня вечер будет, солнце уйдет спать? Уйдет. Вот мы сегодня пойдем свататься. Пойди позови Холгитона, он с русскими умеет разговаривать и с отцом невесты не хуже поговорит, у него язык, что тальниковый лист на ветру.
«Кого сосватают? Из чьей семьи? — думал Пота, прислушиваясь к стуку, доносившемуся от амбара. — Чего там Улуска заколачивает?»
Вечером, готовясь идти свататься, Ганга пошел в амбар за водкой и вдруг увидел на дверях новенький, пламеневший медью, замок.
— Ах вы, сучьи дети! — вскричал взбешенный Ганга, вбегая в фанзу. — Кто это вздумал на замок амбар запирать? От кого это решили амбар запирать — от собак, от мышей? Кто, спрашиваю, запер амбар?
— Я, — пробурчал Улуска.
— Ах ты, собачий сын! Никто, ни один нанай не закрывал свои двери на замок. Ты первый замок повесил. Кто у тебя что, когда украл? Вон посмотри, большой амбар Баосы, сваи подгибаются под тяжестью еды и одежды, но дверь амбара он не закрывает на замок, знает он: проголодаюсь я, могу в его амбаре взять еду, потом все сполна возвращу. Позор какой! Что люди скажут, когда увидят этот замок? Люди знают: в нашем амбаре одни дохлые голодные мыши. Их мы запираем? Где топор, мама? Амбар мой, дом мой всегда будут открыты для всех, поняли? — бушевал Ганга, выбегая на улицу с топором.
«От тебя, ама, кое-что хотел спасти, — тоскливо думал Улуска. — Как же я тори накоплю?»
Тяжелые черные тучи медленно закрывали синеющую даль неба, верховой ветер погнал по широкой протоке бесконечную упряжку черных собак с белыми загривками. Тонконогие тальники со стоном и всхлипыванием сопротивлялись ветру и беспомощно клонились ветвями к сыпучему песку. Черные тучи, засвинцовевшая вода раньше времени принесли с собой сумерки.
Пришел невыспавшийся Холгитон, и Ганга, рассказывая о первом в стойбище замке, опять распалился.
— Чего ты кричишь? — спросил Холгитон. — Ты что, замка не видел? Вон все русские свои амбары на замок закрывают. Китайские торговцы тоже закрывают.
— Русские, китайские, не о них разговор! Когда нанай амбары запирали? Ты имеешь замки?
— Имею.
— Как? На амбаре замок?
— Я сундук с охотничьим снаряжением на замок закрываю, так спокойнее, любопытная женщина не заглянет.
— Ты охотничий сундук на замок запираешь?
— Запираю, запираю. Ты зачем меня позвал?
Ганга, точно ушибленный, еще некоторое время смотрел на приятеля, почесал в затылке и вновь повел разговор о ненавистных ему замках и замолчал только после того, как рассерженный Холгитон сполз с нар и собрался уходить. Ганга ухватил его за рукав халата.
— Если хочешь знать, у моего отца, у халады, замок был, понял? — кричал Холгитон, уничтожающе сверля глазами низкого Гангу. — В сундуке он держал все драгоценности: шапку, халаты, золотые знаки халады — все это на замок запирал. Все богатые нанай свои ценности под замком хранили, понял? У тебя никогда в жизни богатства не было, потому не знаешь ты замка. Говори, зачем звал?
Услышав, зачем его позвали, Холгитон сделал строгое лицо, зачем-то пошарил глазами по черной от копоти и пепла крыше со свисающими длинными серыми паутинами, пустым углом фанзы и остановился на Улуске.
— Да, верно, некоторые начинают копить богатство с замка, — усмехнулся он.
Улуска вспыхнул, но сдержался, и колкие слова, собравшиеся слететь с языка, остались на месте. Холгитон, прежде чем дать согласие быть сватом, рассказал об отце — халаде, о том, как его обхаживали маньчжурские чиновники, высшее начальство, как его жаловали всякими подарками, как его приглашали сватом все женихи. Из этой речи Ганга с Улуской должны были понять, что выбор их оказался самым удачным, что у Холгитона в крови есть частица отца-халады и отца-свата.
В просторной фанзе Баосы царило вечернее оживление: внучки ползали по широким, застланным новыми узорчатыми циновками нарам; их куклы — акоаны, в широких расшитых халатах, с длинными, до пят, косами, хаживали в гости друг к другу, сплетничали так же, как сплетничают няргинские женщины; а внуки на конце нар возились с молодым дядей Калпе. Старшие мужчины лежали на своих местах: Баоса — возле очага в самом тепле, в сажени от него Полокто, дальше Пиапон; женщины хлопотали у очага.
Увидев в дверях гостей, Баоса сел, ответил на приветствия и пригласил их сесть возле себя. Женщины набили трубки, раскурили и преподнесли гостям.
— О-о-ве! Вот это трубки, вышиной с мачты лодок, на которых мы в маньчжурскую землю ездим, — улыбнулся Холгитон.
— Сразу видно, добрые люди подают, — пропел за ним Ганга.
Только один Улуска не нашел нужных слов и промолчал: после дневного скандала из-за замка он расстроился, и даже улыбка невесты, преподнесшей ому дымившую трубку, не подняла настроения.
— Лето нынче обещает быть хорошим, — начал разговор издалека Холгитон.
— Трава выросла густая, — подхватил Ганга, — мы вчетвером быстро накосили русским травы.
— Погода хорошая стояла, а теперь вот портится, видно, дождить станет.
Женщины у очага старались не шуметь, уши всех были обращены к разговаривающим. Увидев в руках гостей водку, они зашептались, засуетились; одна ставила перед мужчинами низкий складной столик, другая подавала бронзовый кувшинчик, в котором разогревали водку, и маленькие, с наперсточек, фарфоровые чарочки. Вскоре на столике появилась мелко нарезанная юкола, залитая рыбьим жиром, куски сохатины в бульоне, обсыпанные ароматной высушенной черемшой.
— Мы пришли к тебе, наш сосед, не как нищие к богатому и не как богатые к нищему, — заговорил наконец об основном Холгитон, принюхиваясь к щекочущему нос запаху черемши. — Мы пришли, как равные к равному. У нас есть то, что мы можем отдать вам, у вас есть то, что мы хотим попросить. Лодка, какая бы она ни была, всегда делается с кочетком, но к ней нужны весла. У нас есть лодка, добрая, хорошая лодка, у вас есть весла, и мы пришли просить эти весла. Мы вам заплатим за них столько, сколько запросите, мы не скупые.
— Может, вы свою лодку нам отдадите? — усмехнулся лежавший возле гостей Полокто.
— Садись к столику, Полокто, и ты, Пиапон, подсаживайся, — продолжал Холгитон. — Вы поняли меня — это хорошо, только не отвечайте нам смехом. Звери, люди появились на земле, чтобы вечно жить, они делают все, чтобы их род всегда размножался. Лоси, изюбры каждую осень ищут себе самок, даже бурундуки и мыши и те соображают в чем дело. А как же человеку обойтись?
Холгитон выкладывал все свое красноречие, он говорил, переиначивая свои переживания, свои ночные размышления, и сердце его обливалось кровью. Он и здесь изворачивался, хотел за страстными словами, за красноречием скрыть свою боль, которая оставила не заживающие до гроба душевные ссадины.
— Если зверям самка нужна, чтобы продолжить свой род, то человеку-мужчине нужна человек-женщина, чтобы быть хозяйкой в его доме, варить еду, шить обувь, одежду...
— У нас старуха уже ничего не может делать, ослабела, — вставил слово Ганга.
— Вот мы и пришли просить твою старшую дочь, мапа, а вашу сестру, дорогие Полокто и Пиапон. Мы все знаем ее с малых лет, видим, какая она красавица, какие ловкие у нее руки. Наш Улуска как мужчина имеет все достоинства, но хвалить мы его не будем, только торговцы хвалят свои товары, а мы не торговцы.
Холгитон наливал водку хозяину большого дома, старшим братьям, потом всем остальным мужчинам и женщинам. Пары разогретого напитка быстро окутывали мозги пьющих, неразговорчивым развязывали языки, веселым подливали веселья, и вскоре большой дом Баосы шумел, смеялся, плакал разноголосым детским плачем. Затихли только утром, с рассветом.
А на улице завывал ветер, дождь барабанил по затянутому рыбьим пузырем окну. Гости спали с мужчинами большого дома, а женщины скучились на другом краю нар. Проснувшись, уселись на краю нар, поджав под себя ноги, курили, прислушиваясь к шуму разбушевавшейся непогоды.
— В такой день никуда не выедешь, — проговорил Полокто.
— Зачем ехать, сеть будем вязать, — отрезал Баоса.
Холгитон, поглядывая на Гангу и его сына, почесывал затылок. Прошла только первая свадебная завязка — мэдэсинку, отец и старшие братья соглашались отдать Агоаку за Улуску, теперь, пока головы болят да и погода не позволяет на улице работать, можно приняться за вторую часть свадьбы — енгси. Холгитон знал, что третья часть свадьбы — дэгбэлинку, когда войдут в дом невесты с богатым тори, — навряд ли произойдет в ближайшие годы. Улуске придется во многом отказывать себе и отцу, чтобы собрать выкуп. На предложение Холгитона сегодня же провести енгси Баоса долго не соглашался, он хотел ради приличия обождать хотя бы три-четыре дня, но все же под напором свата вынужден был уступить. Гости ушли домой за водкой для продолжения свадебного разговора, а Баоса уединился с мужчинами в правом крайнем углу на совет большого дома. Они решали, во сколько оценить тори, что из вещей запросить или только деньгами брать.
К возвращению сватов совет дома решил все вопросы, младших мужчин оттеснили в сторону, и на их место посадили сватов — трех против трех. Женщины подали трубки, и вскоре шестеро мужчин оделись в сизые дымные халаты.
— Мы просим за нашу женщину немного, — начал Баоса. — Вы сами знаете, как она бела, как работяща, встает с солнцем, а ложится после него...
— Мы не хвалили своего мужчину, — не выдержал Холгитон.
— Вы его не продаете, а мы свою женщину продаем. Мы не можем похвалиться своим богатством, как некоторые люди, у нас единственное, что имеет цену, — это наша женщина. Мы ее растили, кормили, оберегали от злых духов, от всяких болезней. И как бы нам ни было тяжело, мы не требуем многого, — Баоса принялся раскуривать трубку, и дым на время закрыл его лицо. — Мы просим сто рублей.
Холгитон переглянулся с Гангой.
— Это дороговато, — сказал Ганга.
— Мы же добрые соседи, живем уже столько лот рядом, помогаем друг другу, поэтому можно было бы немного уступить, — сказал Холгитон.
— Никто из нас не знает, когда он отправится к своим предкам в буни. Я могу уступить немного, если дадите мне на дорогу в буни шубу с густой теплой кучерявой шерстью незнакомого зверя. Шубу эту можно достать в Саньсине.
— Надо же... — заикнулся было Ганга, но его опередил Холгитон.
— Достанем, не впервой нам в Китае бывать. Во сколько тогда оценивается тори?
— Девяносто.
— Восемьдесят.
— Нет, и так мы дешевим. Девяносто.
— Мы соседи, дом в дом живем и дальше так будем жить. Ты можешь видеть дочь каждый день. Восемьдесят.
— Чужим бы я намного дороже оценил. Девяносто.
Долго еще спорили упрямый Баоса и сладкоязыкий Холгитон. Пиапон наконец не выдержал, решительно стал на сторону сватов, и только тогда прекратился спор. Баоса сидел нахмуренный, недовольный, даже не взглянул на принесенную ведерную банку водки, не участвовал при измерении, хотя он должен был это сделать, чтобы знать, сколько ему нести водки, когда отвезет невесту в дом жениха.
Саньсин — китайский город на Сунгари.
Улуска преподнес ему чарочку, встал на колени, и Баоса вынужден был его поцеловать и выпить. От него Улуска подошел к матери Агоаки, потом к своему отцу и стал обносить всех остальных по старшинству. Выпив несколько чарочек, Баоса смягчился, сам полез целовать будущего зятя.
Поздно вечером, когда половина пирующих вповалку лежала на нарах, счастливая Агоака постелила новую постель на своем краю нар у дверей. На нее насмешливо поглядывали хмельные женщины, остроязыкая, несдержанная Дярикта нашептывала в ухо непристойные слова и советы. Агоака отмахивалась от нее и низко опускала горевшее лицо. В этот вечер после енгси Улуска должен был спать с будущей женой. Неизвестно, когда он вместе с ней переспит следующую ночь, может, это произойдет через год, если подвалит удача, может, через три, пять лет — никто об этом не знает. Но Улуска будет помнить тепло своей желанной жены, она будет звать его каждую ночь; постоянно ожидаемый ею, он будет вытягивать из себя жилы, будет отказывать во всем, но когда-нибудь добудет нужные деньги, шубу и на крыльях примчится к огоньку жены.
Агоака стыдливо сжалась, напряглась вся, когда Улуска полез под ее одеяло. Она была счастлива в эту ночь. Рано созревшая, рано почувствовавшая себя женщиной, раздражаемая ночными поцелуями ласкавшихся рядом жен братьев, она в эту ночь ласкала будущего мужа, прижималась к нему, вбирая его тепло, силу, выносливость. Ей хотелось, чтобы ночь продолжалась до бесконечности, чтобы Улуска никогда но отходил от нее и не оставлял постель сиротливо-холодной. Улуска часто вздыхал, это настораживало ее, она чувствовала, что душу будущего мужа гложут какие-то тяжелые мысли.
Рыбьи пузыри на окнах посерели, потом посветлели.
— Я, видно, не соберу тори, — наконец вымолвил Улуска. У Агоаки сжалось сердце.
«Что же это? Неужто не будет другой такой ночи»? — мелькнула мысль.
— Не соберу...
— Что же делать?
— Не знаю, — Улуска спрятал голову под одеяло. — Мне не хочется уходить к себе, навсегда остался бы у тебя...
Агоака слышала, что бедные молодые люди, не сумевшие накопить денег на тори, входят в семью невесты, как говорят, «входят в дом», их называют «вошедшими». Чаще всего молодые охотники входили в семьи, где не было мужчин-кормильцев или были маломощные старики, но чтобы входили в большие дома, где полно своих охотников, не слышала.
— Это очень стыдно... люди смеяться будут...
— Пусть смеются, а ты войди к нам, — возбужденная Агоака не заметила, как сказала в полный голос. — Я не могу без тебя дальше жить, пожалей меня... пусть смеются, перетерпим...
Утром Улуска помогал братьям жены вязать сеть, вить веревку, делать поплавки из коры бархатного дерева.
Улуска остался в большом доме Баосы.
ГЛАВА ПЯТАЯ
День выдался ветреный, солнце пряталось за высокими пенными облаками и никак не хотело сушить глиняные изделия Баосы. На широкой доске старик месил глину, как женщина месит тесто для лепешек. Замешенную стариком глину Улуска резал на прямоугольнички, зажимал в деревянной форме и вытаскивал готовые грузила для невода. Калпе раскладывал сырые грузила на песке, прищурившись, поглядывал на скрывавшееся за облаками солнце. Грузила надо высушить до каменной твердости, потом жечь на костре — это лучше всех выходило только у молодого Калпе, про него говорили, что он подчинил себе глину и огонь, потому все его грузила при обжиге не трескаются и не лопаются. Соседи при обжиге грузил часто приглашали Калпе, и он очень гордился этим вниманием.
Возле Калпе оснащала кетовый невод соседняя семья, скоро им понадобятся грузила, и они обратятся к молодому мастеру.
— Эй, Улуска, ты лучше суши, у тебя лучше получится.
— Молчит, не слышит.
— Как же он услышит, он же вошел, ха-ха!
— Какой он теперь фамилии?
— Никакой.
— Отец Агоаки, ты разреши, пусть он будет Заксор.
— Правильно, Агоака теперь муж, а Улуска — жена, он же перешел в ее дом...
Улуска в первые дни не мог спокойно переносить насмешки, он дрался с мужчинами и только ночами, в объятиях жены, находил успокоение. На третий день после енгси Улуска ездил бить острогой сазанов и амуров, возвращения его ожидало все стойбище, Изнывавшие от любопытства женщины прокалывали иглами дырочки в окнах из пузыря и наблюдали за вернувшимся рыбаком. Улуску никто не встречал: Агоака еще не знала, останется муж у нее или нет, хотя он прожил три дня в большом доме, и потому не посмела встречать, а мать Улуски считала, что сын совсем ушел к жене, и тоже не вышла на берег. Улуска чувствовал на себе глаза всего стойбища и, выигрывая время, долго возился в оморочке, для виду перекладывая толстого сазана с места на место, перетряхивая сиденье. Он выжидал, тайком бросая взгляды на двери своей родной фанзы и чужого дома, проклинал себя, свою нерешительность. Сколько он мог выжидать, он сам не знал.
— Все на берегу стоит, — шептали в фанзах.
— Жена не вышла?
— Почему мать не идет?
— Пусть сам решает...
— Чего решать? Три ночи переспал, выходит, уже вошел в дом Баосы.
Наконец Улуска взвалил на себя злосчастного сазана и, пошатываясь, побрел к фанзам. Он принес добычу в дом жены, и с этого момента Улуска стал объектом для насмешек мужчин и сплетен для женщин. Отец умолял его не позорить род Киле и вернуться в свою фанзу, а рассвирепев, стал ругать его на чем свет стоит и проклял. Холгитон, укоризненно качая головой, корил себя, что злой дух попутал его согласиться быть сватом.
— Эх! Вот так ровня — лодка с кочетком ушла к веслам, — говорил он.
— Собачий сын! Кормить нас не хочешь? Из-за бабы, из-за ее... бросил мать и отца! — кричал Ганга.
Только в большом доме Баосы все хранили молчание, не осуждая и не одобряя поступка Улуски. Все смотрели и ожидали, что скажет глава большого дома. Баоса уже слышал, что говорили за его спиной, как обвиняли его в жадности, смеялись, что в доме перевелись охотники и потому глава большого дома принял, мол, «входящего». Но Баоса имел на этот счет свое мнение, он не собирался выгонять Улуску. Зачем выгонять? Посмеются, посмеются и перестанут. К тому же все удары падают только на Улуску, пусть он терпит. Если бы Улуска принес тори, то Баоса тоже обязан был по закону собрать приданое дочери на эту же сумму. Даже водку и ту он должен был возместить сполна, ведь ее не зря меряют перед тем, как начать выпивать. А теперь Улуска сам вошел в его большой дом, все, что он добудет на охоте, заработает где в другом месте, — все пойдет в общую копилку. Баоса знает, Улуска ловкий охотник, при старании он может добыть пушнины не меньше-, чем каждый охотник большого дома. Пусть живет, он не мешает, себя и жену кормит, а там, смотришь, и лишний кусок принесет.
Долго, видимо, еще измывались бы соседи над Улуской, если бы не прибежал сын Полокто, Ойта, и не сообщил о приезде русских.
— На двух лодках приехали, — тараторил мальчик. — Одного, дедушка, даже я знаю, с такой длинной бородой, который к тебе часто приезжает.
— Много их приезжает, и все с длинными бородами. Который? — спросил Баоса.
— Да этот, у которого длинная борода и высокий нос в волосах запрятан.
— У всех у них большие носы в волосах запрятаны, — рассердился Баоса.
Он встал, обогнул угол фанзы и издали сразу узнал своего приятеля — высокого, широкоплечего Илью Митрофановича Колычева. Он приехал с сыном Митрофаном, с которым подружился Пиапон, и с зятем Петром. На другой лодке сидел Феофан Митрич Ворошилин с сыном Григорием и рыжеволосым соседом. Баоса скорым шагом затрусил на берег встречать приятеля. Рядом с ним бежал Ойта.
— Дедушка, скажи, почему волосы некоторых русских красные? — спрашивал он.
— Солнцем опалило.
— А почему у нас нет опаленных?
— Потому что мы голову укрываем.
— Они тоже укрывают.
— Раньше, выходит, не укрывались.
— Дедушка, скажи, а почему у них нет кос?
— У нас волосы больше на затылке растут, потому у нас косы, а у русских больше на подбородке растут, потому у них такие бороды.
Баосу опередили молодые, они первыми по-русски с превеликим удовольствием здоровались с гостями за руки. Когда старик пришел на берег, гости стояли в кругу охотников и что-то говорили, но что — Баоса не понимал. Из всех няргинцев только Холгитон, Ганга да Пиапон с Калпе довольно сносно говорили по-русски, они и были переводчиками.
— Они говорят, рыбу ловить приехали, по старой дружбе просят у нанай помощи, — захлебываясь, переводил Холгитон.
— Что там говорить, поможем, — ответили несколько голосов.
Первым Баосу заметил сын Ильи Колычева — Митрофан.
— Батьго, мафа! Аяси? — поздоровался он по-нанайски.
— Бачигоапу, бачигоапу, — радостно заулыбался Баоса. — Ишь ты, не забыл еще слова.
Подошел сам Илья Митрофанович, на целую голову выше Баосы. Баоса возле Колычева всегда почему-то чувствовал себя неловко, ему казалось, что приятель своей пышной бородой, кудлатой головой закрывает половину голубого неба. Он вглядывался в лицо Колычева, прислушивался к его громовому басу и улыбался, кивая головой.
— Он говорит, ты, Баоса, не стареешь, какой был с первого дня знакомства, таким и остался.
— А он почему не стареет? Борода его не растет, а моя коса с тех пор намного длиннее стала.
Баоса повел гостей в свой дом, он шел впереди толпы и вспоминал свое знакомство с Колычевым. Молодой Баоса много раз слышал рассказы очевидцев, которые неожиданно натыкались* на стоянки русских на Амуре, на их поселения. Сам Баоса несколько раз из-за тальника наблюдал за проплывающими мимо плотами. Однажды плот так близко прошел от него, что он услышал чужую, незнакомую речь, плач ребенка, уловил запах подгорелой лепешки. Он видел обросшие волосами лица русских, удивлялся, а когда заметил мальчишку с красными волосами, то впервые в жизни не поверил своим глазам. У мальчишки на голове были не волосы, это были лучи солнца, и Баоса, если бы не страх, догнал бы плот и руками пощупал эти солнечные волосы.
Русские плоты спускались вниз по Амуру, куда они спускались, никто не знал. Потом низовские нанай сообщали, что русские заселили такой-то мыс, построили дома, вырубили и выжгли тайгу на таком-то повороте. Однажды несколько плотов с бородатыми русскими пристали у каменистого высокого утеса, где Амур выпрямляется и бьется грудью о скалы. Вскоре затрещал лес под острыми топорами пришельцев, запахло смолой. Тревожные вести приносили очевидцы, наблюдавшие за гибелью деревьев:
«Земля, на которой веками стояла тайга, оголяется...»
Батьго, мафа! Аяси? — искаженное «бачигоапу». Здравствуй, старик! Здоров?
Баоса тоже выезжал, смотрел, как русские рубили деревья, и ему действительно показалось, что пришельцы сдирают шкуру земли. Он представил оголенную землю, без высоких кленов и лип, дубов и кедров, и ужаснулся.
Русские не тревожили нанайские стойбища, они продолжали воевать с бессловесными, беззащитными таежными гигантами. Няргинцы, в первое время собиравшиеся переселиться на другое, дальнее место, успокоились и продолжали заниматься своими делами. Но нашлись среди них охотники, над которыми любопытство взяло верх, они заявили, что не могут спокойно жить, пока не познакомятся с пришельцами. Это были Холгитон и Ганга. Баоса не желал встречаться с людьми, которые так безжалостно сводили тайгу, он жил без русских и дальше проживет без них. Так думал он. Но ему все же пришлось встретиться с русскими, и встретился он в тайге. В ту осень тайга изобиловала кедровыми орехами, был хороший урожай на них, а там, где орехи, — там и белки.
Баоса с маленьким Пиапоном ушел в тайгу на белкование. У него было оставленное покойным отцом охотничье угодье, в котором даже в неурожайные на орех годы он добывал по сотне, по полторы дымчатых шкурок. На второй день промысла Баоса услышал приглушенный дальний выстрел, и ему показалось, что стреляли в соседнем ключе, на охотничьем угодье соседа. Но второй выстрел прогремел явственнее, Баоса встрепенулся: стреляли на его участке. Кто же это мог быть? Ведь все охотники знают таежный закон, никто без разрешения хозяина не может промышлять на его участке. Может быть, кто ошибся, увлекся охотой и зашел на его участок? Так тоже не может случиться — каждый таежник как свои пять пальцев знает границы своего участка. Ошибки в тайге не может случиться, в тайге ошибаются однажды. Все верховские, низовские нанай, орочи за Сихотэ-Алиньским хребтом, эвенки за Северным хребтом — все знают свои участки.
Баоса зарядил ружье жаканом, который всегда носил на случай встречи с медведем или кабаном, и бесшумно зашагал в сторону раздавшегося выстрела. Под темными кедрами было сумрачно, как летом после захода солнца. Белки, не слыша шагов охотника, щелкали орехи, ссорились между собой, уркали, бегая по смолистому кедровнику; врасплох застигнутые на земле, с испуганным урчанием стрелой взбегали на первое попавшееся дерево. Собака Баосы сперва гонялась за ними, лаяла, но после нескольких окриков хозяина перестала обращать на них внимание.
Баоса еще издали увидел выслеживаемых нарушителей таежных законов. Их было двое — мужчина и мальчик, они шагали по тайге, как по улице, широко и шумно, задрав головы, смотрели на вершины кедров и вполголоса совещались о чем-то. Баоса мог бы обоих уложить прежде, чем они успели бы поднять свои ружья, не зря он считался самым скорострельным, самым метким: успевает по гусям выстрелить трижды — в сидячих, отрывающих лапки от воды и в воздухе.
Но Баоса не стал стрелять: перед ним были русские.
— Уходите! Это моя земля! — закричал Баоса.
Русские замерли.
— Это мое охотничье место! Уходите!
Баоса отпустил собаку, вышел из-за широкого ствола кедра, держа ружье наготове и зажимая в левой руке очередной патрон. Русские тоже подняли ружья, крикнули что-то на своем языке и с медвежьей проворностью юркнули за толстые стволы. Баоса тоже спрятался и кричал по-нанайски, чтобы они покинули его наследованное от деда и отца угодье.
Густоголосый бородач махал из-за ствола дерева шапкой, рукавицами, и Баоса усмотрел в этом хитрость — бородач манил, просил выйти из-за дерева, чтобы мальчик подстрелил его, как белку.
— Не обманешь меня! Я в тайге этой хозяин! — кричал Баоса. — Уходите отсюда, а то перестреляю, как рябчиков!
Переговоры затянулись и сколько бы ни продолжались, навряд ли они пришли бы к обоюдному согласию: переговаривающиеся стороны не понимали друг друга. И как часто бывает в подобных обстоятельствах, человек любой национальности понимает жесты скорее, чем слово.
Бородач прислонил свои ружья к дереву со стороны Баосы и, что-то крича, выглянул. Баоса тоже опустил ружье и шагнул к нему.
— Уходите отсюда, это мое место, мой отец, мой дед здесь охотились! Отоли — понимаете?
— Ну одолел так одолел, бог с тобой, только не стреляй.
Баоса ткнул в сторону густоголосого бородача, потом махнул в сторону Амура, потом он ткнул себя в грудь и широко обвел рукой вокруг.
— Что это он? Кажись, гонит нас? — взглянул старшин на младшего.
— Кажись, гонит, — кивнул мальчик.
— Как же так, друг человек? Тайга большая, она богом для всех справлена...
Баоса смотрел в черные зрачки голубых глаз бородача, пытался разобраться в его речи, по так и не разобрался.
— Уходите с моего места! — крикнул он еще решительнее. — Возьмите ружья, — ткнул он в сторону ружей. — И уходите отсюда, — он еще раз взмахнул рукой.
Русские забрали ружья и, оглядываясь, ушли вверх по ключу.
«Где-то тут недалеко остановились, — подумал Баоса. — Поняли они меня, а я их не понял. Что они говорили, чего просили?»
Через два дня Баоса опять услышал выстрелы и пошел на них вместе с маленьким Пиапоном. Бородач с сыном промышлял в верховьях ключа, где Баоса думал собрать всех белок через полмесяца. Увидев Баосу с Пиапоном, бородач прислонил ружье к дереву и отошел в сторонку. После раздумья Баоса передал свое ружье сыну, наказал, чтобы он был в любой момент готов к выстрелу, и подошел к русским.
— Уходите, это тоже мое место, — сказал он.
— Мы вниз больше не ходим, видишь, мы только туда бродим, — заговорил густоголосый. — Мы далеко от тебя: ты — там, мы — тут.
— Чего ты? Говорю, уходите! — Баоса отломил веточку и на снегу начал чертить Амур, протоки, хребты, горные речки и ключи; свое угодье он обвел кружком и, показывая на этот кружок, тыкал себя в грудь.
— Так, теперь мы вразумели тебя, мил человек, — устало проговорил бородач. — Стал быть, это твоя земля, ты, как у нас в Расее, как барин, лес имеешь? Та-ак...
Бородач сел на поваленный бурей сухостой, вытащил кисет и закурил. Баоса не спускал глаз с него, следил за медлительным движением рук, пальцев, вглядывался в затуманенные голубые глаза и пытался разобраться в этом человеке. Баоса еще в прошлую встречу понял, что нарушители таежного закона, смирные, безобидные люди. Будь он на их месте и увидев направленное на него ружье, навряд ли остался бы таким спокойным и выдержанным, как этот человек. Он и тогда заметил зашитые суровыми нитками заплаты на ватниках, неумело сшитую обувь из сыромятины, а теперь ближе рассматривал незнакомую ему одежду.
«Что за люди? Зачем они приехали на Амур? — думал Баоса. — Должна же быть где-то земля, которая породила их, почему они бросили ее? Зачем зарятся на мое угодье? Нет, я все равно вам не отдам этот ключ. Вы не знаете законов тайги, я объяснил вам, видно, поняли, а то бы не задумались так».
Густоголосый бородач поднял голову.
— Ты, видать, нас выгоняешь, а куда нам податься? Говорят, дальше море-окиян, куда податься? Всю Расею мы, друг, этими ногами померяли, вдоль всю пешком-пешочком прошли. Говорили, здеся, на Амуре-реке, приволье, земля вся свободная, ан она не вся свободна, стал быть, есть и тут хозяин...
Баоса прислушивался к голосу говорившего, улавливая грустные нотки, и хотя не понимал слов, но вдруг сердцем стал ощущать волнение бородача.
«Ты такой сильный, могучий, что я напротив тебя? Но почему твой густой голос дребезжит, как берестяная призывная труба с трещиной? Твои честные глаза чисты, но почему они такие грустные, какие-то виноватые?»
— Не знаешь? Не ведаешь? Куда уж там, ты хозяин, хозяин — барин. Твои крестьяне, аль как там ишо у вас, они, верно, не имеют своей землицы, им не сытно.
— Батя, да какой он барин, глянь, обутки с рыбьей кожи, — впервые промолвил мальчик.
— Это уж как им взглянется, у каждого барина свой норов, может, энтому такая обутка ндравится.
Баоса ушел, предупредив, что он вернется через два дня и чтобы к этому времени русских не было на его ключе. Вернулся он только на третий день, разыскал шалаш охотников; оттуда тянуло дымом.
— Эй, лоча, выходи! — крикнул взъяренный Баоса. — Кончилось мое терпение, это мое место, я по закону убью вас! Из-за вас я мало пушнины добыл, чем я семью буду кормить!
— Ловкий ты, лоча! На улице боялся убить, в шалаше хочешь задушить? Нет, старый заяц сам в петлю не лезет. Где большеносый бородач?
Мальчик что-то отвечал, прижимал руки к голове, к животу, закатывал глаза и продолжал звать Баосу.
— Заболел, что ли? — предположил Баоса.
— Наверно, заболел, ама, — ответил Пиапон. — Три дня не было слышно выстрела.
Тем временем молодой русский вынес из шалаша оба ружья, отнес их подальше от шалаша и повесил на сук, тут же он воткнул два ножа, отложил топор.
— Заболел старший, — сказал Баоса. — Пойду взгляну, а ты останься, крикну — стреляй, не жалей.
Лоча — русский.
Баоса вошел в шалаш, огляделся. Обыкновенный охотничий шалаш, только хуже утепленный, сделанный на скорую руку. В середине очаг, какое-то варево булькает в котле.
Густой голос задребезжал с правой стороны очага. Баоса опасливо сел возле очага, ближе к дверям. Густой голос продолжал хрипеть, и Баоса понял, что большеносый тяжело болен. Мальчик снял котел с очага, и, к своему удивлению, Баоса увидел на дне отваренную хвою.
— Что же это? Есть вам нечего, что ли?
Баоса вышел из шалаша, нашел в снегу сложенные в кучу побелевшие на морозе тушки белок и затащил в шалаш.
Потом вылил из котла воду, хвою, растопил снег и начал варить беличье мясо. Распоров беличий желудок, он насильно накормил больного содержимым желудка.
— Эх, лоча, лоча, это же готовая, вкусная, лучшая еда. Не надо шишек собирать, не надо орехи выбирать, не надо грызть их — все готовое, даже жевать не надо.
Баоса разговаривал с большеносым, как с младшим, он начисто забыл о своей угрозе, страх бесследно исчез — перед ним лежал тяжело больной, голодный человек, попавший в беду. Кто же поможет ему, если не Баоса? Кругом — ни души, один неопытный мальчик сам умрет с голоду да и большеносого отправит в буни. Здесь тайга. Баоса знает, как вылечить больного. У него есть корни — годялахи, они вылечивают от всех болезней.
В этот же день Баоса сам сходил за лекарством, а вернувшись, несказанно удивился, услышав разговор Пиапона с русским мальчиком.
— Ама, его зовут Митропан, — сообщил Пиапон, — а тот, больной, его отец, Илья зовут.
Так познакомился Баоса с Ильей Колычевым и его сыном Митрофаном. Баоса поднял на ноги Колычева, он вылечил его, выходил. С тех пор прошло много лет, мальчики стали мужчинами. Баоса подружился с Колычевыми, рыбачил с ними и охотился, но до сих пор не научился разговаривать на их языке. Пиапон выучился говорить по-русски, а Митрофан по-нанайски довольно бойко рассуждает о погоде, о рыбной ловле, об охоте, одним словом, все говорят, а Баоса один безнадежно отстал...
— Отец твой говорит, я не постарел, — улыбнулся Баоса, — а на тебя, Митропан, он не смотрит, что ли? Твоя кучерявая борода до пупа достала.
— Достала, достала, — смеялся добродушный Митрофан.
Низкорослый, чуть выше Ганги, Феофан Митрич Ворошилин, самый зажиточный после торговца Салова хозяин в селе Малмыж, уцепившись за рукав халата Холгитона, сыпал такой скороговоркой, что переводчику приходилось одергивать его.
— Медленно говори, медленно! — покрикивал Холгитон. — Чево тебе торопи, лось убегай, что ли? Чево сказал? — И тут же он переводил его слова сородичам: — А-я-я, как быстро этот лоча говорит, слышите, да? За его языком на лыжах не угонишься. Он спрашивает, почему не хотим свои имена менять на русские? Я ему говорю, твой поп даже рыбу ловить не умеет, ни одного даже бурундука в жизни не добыл, чему он нас может научить?
— Нас крестили, русские имена дали, да мы забыли их.
— Оттого что крестили нас, не стало больше мяса и рыбы.
— Нравится ему креститься — пусть крестится!
— Я ему говорю то же, а он говорит, гольды все русские фамилии, имена должны носить, поп медные кресты на шею повесит.
— Он сам своим коровам медные колокольчики повесил, я видел, — сказал Ганга.
— Не слушайте этого русского, — недовольно заговорил Гаодага Тумали. — Поп приедет, мы сделаем вид, что слушаем его молитвы, креститься будем, потом забудем — и все. Так было, так и дальше будем делать. Только верить не будем, иначе нас русскими сделает: землю копать, коров держать и траву косить заставит. Тебе, Холгитон, и тебе, Ганга, нравится их жизнь — можете кресты носить, а я не хочу, я охотиться буду и рыбачить буду.
— Правильно.
— Он просто спрашивает, чего ты, Гаодага, сердишься? — вступился за Ворошилина Холгитон. — Я тоже не хочу в земле рыться, чего меня задеваешь?
— Чего, чего вы разругались? — встревожился Ворошилин, его быстрые глазки в один миг обежали по всем лицам, не останавливаясь ни на одном.
— Тебе про попа говори, люди попа не хочу, понял? — ответил Холгитон. — Креста не хочу, корова не хочу.
— Что ты, что ты говоришь? Ты нашу веру не оскорбляй, антихрист.
— А ты к ним не приставай, — прогудел Илья Колычев. — У них своя вера, у тебя — своя. Не трожь их.
— Ты мне не указ, Илья, я что хочу, то и говорю. Может, я их в нашу христианскую веру хочу обратить? Они без бога живут, без веры.
— Пусть живут. Их крестили, русские имена дали, чего ты еще от них хочешь?
Баоса открыл дверь фанзы, перешагнул порог, за ним вошли гости и свои, няргинцы.
Гости рассаживались на нарах. Ворошилину предложили сесть возле вытесанного из камня бурхана — дюли, но он, опасливо взглянув на каменного человечка, пересел на край пар, ближе к дверям.
— Тебе не боись, он смирный люди, кусатса нет, ночью голова не лезет, сон не показывает, — говорил Холгитон, посмеиваясь, пересаживаясь на край нар вслед за Ворошилиным. — Он дом караулит. Понимай?
Баоса распорядился, чтобы женщины приготовили богатый ужин, не жалели ни крупы, ни фасоли: в гости к нему пришли его друзья, он должен их сытно накормить, напоить.
Он сел на слое место и начал через Митрофана расспрашивать о здоровье Ильи, о новостях в русском селе Малмыж, о житье знакомых, потом рассказал о женитьбе Улуски на Агоаке, похвастался молодым зятем. Краем глаз он следил за женщинами; те столпились возле очага и о чем-то перешептывались, боязливо поглядывая на главу большого дома, наконец, решившись, направили к нему Ойту.
— Дедушка, мама говорит, нечего варить, — заявил мальчик.
— Что же это, амбары опустели? — усмехнулся Баоса.
— Не знаю, мама не идет в амбар, тебя зовет.
Баоса зло сверкнул глазами, сдерживая себя при гостях, медленно слез с нар и подошел к женщинам.
— Чего медлите? Гости голодные, а они стоят тут. Почему не начинаете варить?
— Крупа, фасоль — все в амбаре... — начала Майда.
— Чего рассказываешь, сам знаю. Почему не идете в амбар, хотите, чтобы я сам сходил?
— Как идти, сука ощенилась...
— Что?! Сука? — Баоса выбежал на улицу, прошел за фанзу, где стоял сложенный шатром плавник, приготовленный на дрова. Внутри шатра, на пучке сухой травы, свернувшись в клубок, лежала черная сука с белым ошейником густой шерсти и длинным языком лизала лоснившиеся спинки и бока тупомордых, большеголовых щенят.
— Ах ты, погань! Ах ты... не могла, проклятая, чуть припозднить! — Баоса от злости пнул ни в чем не виновную суку и вышел из шатра. Тут стояла Майда, виновато опустив голову. — Ты тоже хороша, не могла занести домой немного крупы и фасоли!
— Да откуда я знала, что она сегодня ощенится. Да и гостей я не ждала. Что же делать?
Баоса сам не знал, что делать. В амбаре, где хранилось продовольствие, по углам стояли сундуки с таежным снаряжением, одеждами, которые охотники надевали только в тайге, к которым не могли прикасаться женские руки, женщин вообще близко к амбару не допускали, если у них были месячные. Закон отаеживания охотничьего снаряжения не разрешал в течение трех дней открывать амбары и выносить оттуда что-либо, если у кого ощенится сука или в какой фанзе появится покойник. Откроешь амбар — и охотничье счастье упустишь, зимой все звери будут стороной обходить.
— Что же делать? — повторила Майда.
— Не спрашивала соседей, может, у кого дома какая крупа хранится?
— Ходила, спрашивала, крупа у всех в амбаре.
«Какой же ты хозяин большого дома! — стыдил себя Баоса. — Гостей дорогих, друзей своих голодными уложишь спать. Нет, никогда у Баосы гости не ложились с пустыми желудками. Древние мудрецы говорили, можно пол амбара прорубить и руками достать необходимое. Жалко, пол амбара почти новый, год назад только настелили».
— Принеси из оморочки мой топорик, — попросил Баоса.
Когда Майда вернулась с топором, он с ее помощью определил место, где находились продукты, и начал вырубать дощатый пол, потом, не засовывая голову в пролом, достал пудовый мешочек крупы, фасоли, связку копченого мяса, круглый жбанчик с рыбьим жиром и немного водки. Заколотив дощечками дыру, Баоса вернулся в фанзу. В его отсутствие Пиапон и Полокто поддерживали разговор с Колычевыми, а Ворошилин, собрав вокруг себя няргинцев, уговаривал их подрядиться заготовлять дрова.
— Пилы я дам, топоры тоже мои, платить буду щедро, ей-богу, не поскуплюсь, — тараторил он бабьим голосом.
— Не торопи, понимай тебя не могу, — одергивал его Холгитон и обращался к сородичам: — Хороший он человек, слово свое всегда держит, скажет, столько плачу — и заплатит. Спросите у Ганги. Верно, Ганга? Он и водкой поит иногда.
— Ну что? Решились, мужики? Платить буду хорошо, ей-богу, не поскуплюсь, водочки выставлю. — Зеленые кошачьи глаза Ворошилииа прыгали от одного человека к другому. — Чтобы все правильно, без оммана было, бумагу можем составить. Вот бумага, а вот этой штукой будем писать.
— Что он хочет писать?
— Смотри ты, русские тоже долги записывают.
— Какие долги? Мы ему ничего не должны.
— Холгитон с Гангой одни ему работали, пусть им пишет.
— Примак Улуска тоже траву ему косил.
— Улуска, эй, Улуска!
— Не долг он пишет, чего испугались? — повысил голос Холгитон. — Когда он на бумаге запишет, все ему станет ясней, поняли?
— А сейчас ему чего неясно?
Холгитон замялся, он сам не знал, что Ворошилин собирался писать на бумаге, и объяснения его не разобрал.
«Может, мы с Гангой и правда у него в долгу?» — со страхом подумал он.
А Ворошилин, уверенный в том, что наберет в Нярги заготовителей дров, коряво выводил на бумаге: «Июль, летом сево 1900 года...»
— Какой такой долг пиши тебя? — набросился на него только что дружески с ним общавшийся переводчик. — Моя работай, жена работай, Ганга, Улуска работай — какой наша долг? Зачем твоя долг пиши?
— Что, что ты говоришь, Харитон? Какой долг? Никакого долга за тобой нет, кто тебе сказал?
— Дурака твоя! — сказал Холгитон, отвернулся от Ворошилина и продолжал по-нанайски: — Пусть теперь сам себе долги пишет, ишь, нашел людей глупее себя. Больше я на тебя не буду работать, у меня дома своих дел хватает.
— Тебя ж все к русским тянуло, чего же теперь отворачиваешься? — улыбнулся Гаодага.
— Русских много хороших, вон сидят Колычевы, что про них плохого скажешь? А этот все трещит и трещит...
— Харитон, а Харитон, ты чего рассердился? — тормошил Ворошилин Холгитона. — Никакого долга нет за тобой. Послухай, друг, ты уговори своих, за это я тебе больше, чем другим заплачу, понял? Я заплачу, будь покоен, заплачу.
Он сбегал на берег за водкой и начал угощать няргинцев. Увидев водку, Холгитон размяк, стал добрее, только предупредил, чтобы Ворошилин больше никогда ничего не писал на бумаге. Но как ни уговаривал Холгитон соседей, ни один человек не согласился идти заготовлять дрова. Ганга и тот сослался на какую-то срочную работу в своем хозяйстве.
Поздно вечером охмелевшие и насытившиеся гости и хозяева улеглись спать, чтобы наутро подняться раньше солнца и встретить его первые лучи в пути, пополоскаться в них.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Желающих порыбачить с русскими нашлось вдоволь, няргинцы выехали на двух средних неводниках, да русские на своих лодках — четыре лодки, такие артели нанай сколачивали только на кетовой путине. Гребли молодые двадцатилетние парни да Полокто и Пиапон. Баоса, сидя на корме, любовался молодцами, их бронзовыми улыбчивыми лицами, на которых прыгали солнечные зайчики, их извивавшимися черными ужами косами; когда гребцы резко поворачивали головы, чтобы переброситься шуткой с соседней лодкой, косы их плетью хлестали по лицу сбоку сидящего.
Все нравилось Баосе в молодежи: их сила, ловкость, неистощимое веселье, он видел в них себя в молодости, своих соперников. Молодые шутили друг над другом, и Баоса ловил себя на том, что и он тоже когда-то был неистощим на такие проделки; молодые всю дорогу мерялись силами, выстроив все четыре лодки в ряд, по команде Баосы начинали гонки, и старик тоже сжимался в комок, напрягал мускулы, от нервного напряжения не замечал, что сам безостановочно машет кормовым веслом и кричит, подбадривая гребцов. Баоса ничего в жизни не мог делать без крика, потому няргинцы его чаще звали Морай-мапа.
— Чего вы замедлили? Гребите, гребите, справа нас обходят!
Гребцы разом оборачивались влево — косы черными молниями мелькали по синеве воздуха. Баоса, возбужденный, довольный, смеялся: его лодка вырывалась на целую четверть от соседней, которой правил Гаодага Тумали.
— Чего вертите головами, как несмышленыши утята! Шеи свернете. Давай! Нажимай!
Пот щекотал шею, струйкой сбегал по ней, щипал глаза, но Баоса продолжал коротко взмахивать веслом, упершись правой ногой о перекладину, делал гребок за гребком и но замечал, как взмокло тело; он привык к поту с детских лет, он ничего еще не брал в рот из еды, что не было бы круто просолено его потом, не было у него халатов, штанов, которые не истлели бы от его пота.
Морай — кричать. Мапа — старик.
— Еще! Еще! Плохо гребете, собачьи дети! Ну, нажимайте, нажимайте...
Молодежь вкладывала всю силу, недавние улыбки исчезли с лиц, от напряжения одни скалили зубы, у других глаза выкатывались из орбит, но Баоса продолжал кричать и подбадривать. Он давно почувствовал, как обмякли его руки, правая нога, которая упиралась в перекладину, дрожала крупной дрожью — он устал, он давно это понял, но продолжал для виду махать веслом и кричал прерывистым охрипшим криком: пока горло его издавало крик, он чувствовал себя человеком.
— Жмите! Жмите!
У Пиапона сломался кочеток, он выбил оставшийся кончик, забил запасной, в это время первым из гребцов сдался Полокто.
— Хватит... всех оставили, — пробормотал он и, опустив весло, перегнувшись через борт, начал полоскать лицо и жадно пить теплую озерную воду.
Только теперь Баоса позволил себе обернуться назад, взглянуть на оставленных позади соперников: лодка Гаодаги отстала саженей на пятнадцать, за ними далеко позади гнались Колычевы, а Ворошилина даже не было видно.
Гаодага пристал возле Баосы.
Холгитон, широко открыв рот, дышал хрипло и натужно и, против своего обычая, промолчал. Отдышавшись, все закурили трубки. Подъехали Колычевы.
— А-я-я, Митропан, как ты, такой большой и сильный, от нас отстал, а? — смеялись победители гонок.
— Тебе же ветер попутный еще помогал, твоя борода что парус.
— Да отца борода — два паруса.
— Смейтесь, смейтесь, — улыбался Митрофан. — Сами сели в пятивесельные неводники, вас пятеро гребут, а нас только трое.
— Ай да Митропан! Вот так сравнил!
— Глаза у него глубоко сидят, потому не видят разницы в лодках.
— Вы, как муравьи, тянете лодку, — но сдавался Митрофан. — Вас много.
Старики и пожилые рыбаки сидели отдельно от шумно спорившей молодежи. Илья Колычев подсел к ним.
— Да, ничего но скажешь, ваши молодцы умеют грести, — похвалил он.
— Нанай с люльки плавай, — с охотой заговорил, отдышавшись, Холгитон. — Нога вставай — зимой лыжа ходи, лето наступай — он на руках ходи. Понял?
— На гребях, выходит.
— Да, да, греби, греби. На руках ходи.
Подъехал Ворошилин, под смех победителей сошел с лодки и подсел к старикам.
— Вы-то чего балуетесь? — набросился он на них. — Пусть молодцы силами меряются, вы-то, старые мерины, чего потешаетесь? Оставили нас, заблудиться могли.
— Блудиться нет, — ответил Холгитон. — Вода куда беги? На Амур беги... Твоя дома где стой? На Амуре стой. Тебя блудиться нот, вода сама домой принеси. Понял?
— Кровь заиграла, Феофан Митрич, — виновато прогудел Колычев. — Как тут утерпишь? Молодцы тянут.
Пиапон придирчиво осматривал лодку Колычевых; он знал ее, два года назад сам с отцом делал для них. Лодка протекала, видно, весной плохо законопатили или совсем не обновляли высохший за зиму законопаченный мох. Пиапон не любил протекавшие лодки, а в прохудившуюся оморочку вообще не садился, пока не отремонтирует. Он считал, что дно оморочки должно быть сухим и чистым, ведь оморочка для него вторая летняя юрта, он в ней спал, ел, когда ездил на дальние озера на охоту и рыбную ловлю. Заглянув под днище, он нахмурился: днище было изодрано, разлохмачено остриями прибрежных камней, по которым хозяева безжалостно волочили лодку. Сколько раз Пиапон предупреждал, чтобы они не волочили лодку по камням, чтобы подкладывали; под нее вальки или доску. Нет, не слушаются его. Да что им и слушаться, шибко нужна им лодка! Раз в лето выезжают на рыбную ловлю, да бабы съездят за ягодами, остальное время до осенней кетовой путины лодка сохнет на берегу, трескается. Разве так можно? Лодка на то и лодка, чтобы все время быть на воде. Нет, нанай так не обращаются с лодкой. Если разлохматится днище, нанай тут же вытащит лодку, перевернет, высушит и огнем сожжет лохмотья, потому что когда много лохмотьев, лодка теряет ход, требует много лишней силы.
— Чего ты так приглядываешься? — спросил Митрофан.
— Смотрю, как вы бережете лодку...
— Не сердись, Пиапон, у нас в Малмыже мало лодок, чужие берут, ездят...
Холгитон предложил молодежи раза два закинуть невод, чтобы сварить уху, льстил им, говорил, что ничего не стоит десятерым молодым забросить невод, а вытащат они — шш-рр, и готово! — так быстро будут тащить, что вода не успеет выйти меж ячей невода. Холгитон опять был многословен, он хорошо отдохнул, выкурил целых две трубки, его тянуло ко сну, и ехать самому на лов не хотелось. Парни переехали на другой берег протоки и, даже не перекладывая невода с середины на корму, начали его забрасывать. Не успели старики выкурить по очередной трубке, как они второй раз закинули невод чуть выше и вернулись с уловом. Старики сидели, поджав под себя ноги, лениво переговаривались между собой, вспоминали различные случаи из жизни, и, как всегда, больше всех приходилось говорить Холгитону, исполнявшему обязанности переводчика. Молодые рыбаки вытащили ножи и на лопастях весел принялись за разделку рыбы. Но и тут не обошлось без шуток и возни, они организовали свалку из-за горбатого толстого сазана, из которого каждому хотелось сделать талу.
— Эй, осторожнее, осторожнее! Ножи спрячьте! — кричали старики.
— Кого-нибудь пырнете, перестаньте!
Ворошилин поднялся было, чтобы утихомирить молодежь, да удержал его Колычев:
— Сиди, потешатся, не зарежутся.
— Тебе сиди, ты старик, они молодой, — сказал Холгитон. — Они уха вари, они все делай, а твоя кушай. Так наша закона тайга говори, хороший закон, правда? Молодые все делай, хорошо, правда? Почет старым...
Задымили костры, плоские широкие котлы повисли на выгнутых шеях таганов, а вокруг них выстроились на вертелах сомы, подрумянившиеся караси.
— Э-э, друзья, молодые люди, вы не были тогда, когда мы впервые с русскими встретились, — заговорил Холгитон громко. — Хотите, я вам расскажу, как мы первый раз с ними заговорили?
— Хотим, рассказывай, — раздалось несколько голосов.
— Это было давно, тогда не было на Амуре русских, мы, нанай, одни тут жили, да изредка маньчжуры наезжали. Потом по Амуру поплыли плоты с носатыми, бородатыми людьми, вот, как у Колычева.
Илья Митрофанович, услышав свое имя, поднял голову, и Митрофан начал переводить вполголоса рассказ Холгитона:
— Мы, мальчишки, со взрослыми тогда рыбачили, было лето. Невод вытащили, начали рыбу выбирать, и тут, откуда ни возьмись, подъехали русские. Они нас врасплох застали. Бежать? Куда? Как оставить невод, ведь неводу цены нет, его многими годами делают. Мы и решили: чем невод отдавать, лучше умрем. А носатые бородачи лопочут между собой, видно, переговариваются, как лучше нас убить. Потом они говорят: «Дорастуй, хорошо рыба лови?» Мы молчим, мы ничего не понимаем, только голову опустили, ждем — сейчас нас по шее русский топором ударит. «Чего молчите? Без языка ваша люди?» Мы молчим, жалко с жизнью расставаться, мало еще на свете пожили, ничего не видели. Да и невод жалко. «Давай знакомиться будем!» — говорит другой бородач. Тут я услышал знакомое слово «дава», у меня язык развязался, оттаял, что ли, я говорю ему: «Дава аба, дава аба, — поворачиваюсь к своим: «Сразу видно, новые люди, говорю, кету захотели в середине лета». Русские услышали мои слова и заговорили разом. Говорят, говорят, а мы ничего не понимаем. Опять молчим. Тут рассердились русские: «Черта ваша, — ругаются. — Немые, что ли?» Я опять услышал знакомое слово «немо» — ленок и говорю: «Сами смотрите, видите, здесь одни сазаны, сомы, караси, щуки. Берите, что надо, и уходите». Осмелел я, так и сказал. «Немой, немой, а тут говорить начал», — смеются бородачи. Я рассердился и кричу: «Немо аба! Немо аба! Насалкусу-ну, аба-ну?» — «А-а, так-то хорошо, — говорят. — Сразу давали бы и не молчали бы». Довольные, смеются и выбирают рыбу. Мы тоже поняли: они не думали наш невод забирать, да и убивать не собирались, — осмелели. Они выбирают больших длинных черных сазанов, мы суем им горбатых мелкоголовых сазанов, говорим, эти жирнее, вкуснее, они не отказываются, берут. Мы же радовались, мы уж прыгали тогда. Невод оставили, жизнь нашу не погубили, значит, еще поживем!..
— Кто же были они, малмыжские, что ли?
— Нет, низовские. Малмыжские потом приехали.
Уха кипела, и в бурном ее клокотании из котлов выглядывали желтые сазаньи головы с побелевшими глазами, мелькали плавники, сомьи хребтины с янтарными бугринками жира. Жарившиеся на огне караси, сомы начали будто ржаветь. Молодые кашевары, опомнившись, убрали их подальше от костра, сняли котлы и начали разливать уху в берестяные посудины. Малмыжские молча, сосредоточенно перекрестились и наклонились над едой.
— Ишь как крестятся перед едой, — то ли насмешливо, то ли удивленно проговорил Гаодага.
Дава аба — кеты нет.
Нено аба! Насалкусу-ну, аба-ну? — Лейка нет! Есть у вас глаза или нет?
Сидевший рядом с ним Баоса подцепил палочкой жирную хребтину сома, отщипнул небольшой кусочек и бросил на горящие угли.
— Кя, Подя! Не обижайся на меня, угощаю тебя чем могу, твоим же сомом.
— Кя, Подя! — повторили за ним няргинцы и тоже бросили по кусочку рыбы.
Ворошилин, обсасывая сазанью голову, с удивлением наблюдал за ними.
— Что это делают? — спросил он старшего Колычева.
— Угощают своего бога, — ответил Митрофан.
— Ох, антихристы! Как вы с ними в тайге обходитесь? Боже мой, огню молятся, тьфу ты. А еще крещеные! — Ворошилин бросил в догорающий костер обсосанную сазанью голову.
Баоса тут же выхватил ее, отбросил в сторону.
— Ах, мать... — выругался он, сверля Ворошилина злыми кабаньими глазами. — Подя тебе, сучьему сыну, рыбу свою отдал, чтобы ты насытился, а ты его вот как отблагодарил, — кость подаешь. Не поедем мы с тобой рыбачить!
— Как так, твоя зачем так делай? — возмутился и Холгитон. — Так наша ничего поймай не могу. Подя сердит и рыба не давай. Наша с тобой рыбачить не могу.
— Тебя, Феофан, люди уважили, ты тоже их уважь, — промолвил Колычев. — Да ихнего бога не трожь, потому что не от бога ты говоришь.
— Ты что, Илья, ихнего бога под защиту берешь?
— Не хули, Феофан. Они своим богом, мы своим живем. Они тебе рыбку ловят, коровам сено валят, а ты зря хороших людей обижаешь.
— Они тебе велят домой ехать, — сказал Митрофан, — не желают с тобой рыбачить.
— Больно они мне нужны! — воскликнул Ворошилин и вскочил на ноги.
— Слыхал я, верховский купец соленой рыбы тебе заказывал. Сам половишь али ишо кто?
— Оставлю им соли. Харитон, ты умеешь рыбу солить, соли крупную рыбу.
— Твоя Подя обидел, он рыба тебе не даст. Моя солить не буду.
Кя, Подя! — обращение к духам, являющимся якобы хозяевами рек, тайги.
— Ты что? Ты что, Харитоша? — Ворошилин подошел к высокому Холгитону и, заискивающе глядя снизу вверх, продолжал: — Харитон, паровик скоро подойдет, рыбу я им обещал. Помоги, брат, я много денег заплачу, много. Не пожалею, поверь. Харитоша, ты меня знаешь, я не жадный. А-я-я, как это сазанья голова с рук моих упала в костер? Случайно упала, я не бросал. Братцы, слово честное! Ладно, я уеду, только поймайте рыбы, засолите, но откажите, я не задарма, я хорошо заплачу.
— Подя рыба не давай, — твердил Холгитон.
Няргинцы доели уху и принялись за карасей, а Ворошилин все продолжал их уговаривать.
Гаодага первым обглодал карася, неторопливо закурил, и, холодно поглядывая на Ворошилина, сказал:
— Пусть уезжает, наша лодка не будет ему рыбу ловить.
— Мы тоже не будем, — заявил Баоса.
— Ах, разорили, антихристы, подчистую разорили, — бормотал Ворошилин. — Поедем скорей, на озеро Болонь поедем. Ах, антихристы...
Артель распалась. После Ворошилина распрощался Гаодага, он решил для себя половить рыбы в ближайшем озеро, там на песчаных отмелях любили подремать сазаны, сомы, в солнечные безветренные дни на поверхность позеленевшей воды выходили тупорылые серебряные максуны и лениво разгуливали косяками, разламывая озерное стекло острыми алмазными плавниками.
Баоса оставил собравшихся было уезжать Колычевых, объяснив им, что Подя мог рассердиться только на Ворошилина, что Колычевы тут ни при чем. Подя всегда поступает по справедливости и, вероятно, не пожалеет рыбы, даст ее немного. После сытной жирной ухи и жаркого Баоса решил немного отдохнуть, он лег в тени тальников и задремал. Его примеру последовали остальные ловцы.
Митрофан отошел от потухшего костра, большими одубевшими руками начал рвать высокую траву.
— Зачем рвешь? — спросил Пиапон.
— А так, подстелить можно, — ответил Митрофан.
— Рожать собрался? Брось, руки порежешь.
Пиапон лег возле Митрофана, закинув руки под голову, в черных его глазах заколыхалось голубое небо, и от этого белки глаз с тонкими ручейками красных прожилок заголубели, как мартовский снег. Митрофан тоже глядел на опрокинутое небо, на редкие застывшие облачка.
— У нас тоже такое же небо: высокое, нарядное, голубое, — задумчиво проговорил он. — Эх, Пиапон, ты не знаешь, как хорошо весной после пахоты лежать и смотреть на небо. Землей, весной бьет в нос. Потом вскочишь на ноги, оглянешься кругом — до самого края земли видно.
Пиапон слушал друга и думал, что он хотя и никогда не ковырял землю, но ее запах чувствует во все времена года, а не только весной.
— Ты видел край земли?
— Нет, не видел. Прежде я думал, земля кончается недалеко от нашей деревни, но потом мы шли к вам на Амур больше двух лет, а края земли все нет и нет. Говорят, отсюда недалеко до края, пройти еще немного туда, где солнце поднимается, и море-океан будет, — вот там и край земли.
— Верно, я ходил до берега моря, там земля кончается. Море синее и черное, далеко-далеко от берега кончается.
— Я когда-нибудь схожу туда, своими глазами хочу взглянуть.
— А я хочу взглянуть на твою землю, никогда еще не видел, чтобы земля ровная, как ладонь, была.
Замолчали, каждый думал о своем. Митрофан вспоминал Россию, родную деревню, покосившиеся черные домики, весенние пашни с чинно вышагивавшими грачами, и золотое море пшеницы, туго колыхавшееся под ветрами. Почему-то больше и отчетливее всего вспоминались весенние дни с ярким солнцем, с голубым небом. Много в жизни Митрофана было дождливых серых и даже морозных весенних дней, со слякотью, но ему теперь вспоминались только солнечные ясные дни. Что же еще могло запомниться мальчишке? Мысли Митрофана переносятся к сегодняшним дням. Наконец-то в семью Колычевых пришел достаток, у них есть добротный рубленый дом со всем необходимым имуществом, утварью, есть добрая земля и лошади, коровы, хотя и не так много, как у бондаря Феофана Ворошилина или ставшего торговцем Терентия Салова. Молока хватает детям и взрослым, хлеб есть на столе — это уже достаток. Митрофан однажды заявил отцу, что он не собирается больше расширять пашню, что хочет теперь научиться промышлять зверя, добывать рыбу. Мысль эта крепко засела, как гвоздь в стене, и тревожила Митрофана. Он приглядывался к нанай на рыбной ловле, на охоте, ради того, чтобы легче перенять их сноровку, выучил их язык. Недавний проигрыш на гонках глубоко задел его самолюбие, и он дал слово ни зимой, ни летом не давать себе покоя, заниматься полевой работой только в страдные весенние и осенние дни, а в остальное время жить по-нанайски. Учиться он будет у Пиапона.
— Скажи, Пиапон, неужто ты не хочешь иметь свою собственную муку? — спросил Митрофан, приподнимаясь на локте.
— Как — собственную?
— Так. Посеял, собрал — вот твоя собственная.
Пиапон раньше не раз сам начинал разговор о муке, которую, как он думал, люди собирают с земли, как песок. Он верил Митрофану, зачем же, ради чего его друг стал бы врать? Если Митрофан говорит, что муку можно засеять на земле, потом вчетверо, впятеро больше того собрать, то, видимо, это и на самом деле так.
Только намного позже Пиапон понял, что мука — это зерно, что это зерно осенью собирают, мелют и тогда ссыпают муку в мешки. Выходит, чтобы иметь свою муку, необходимо рубить лес, корчевать пни, кустарники, ковыряться в земле, сеять зерна, потом еще что-то делать с этими зернами — на все это потребуется лето, осень и, может, ползимы.
— Нет, свою собственную муку не хочу иметь, — ответил Пиапон.
— Почему?
— Долго учиться придется.
— Я тебя научу, помогать буду.
— Где я время возьму?
— Какое время?
— С тайги шкуру снимать...
— Говорю тебе, мы поможем, мы тебе землю от тайги быстро очистим.
— Нет, Митропан, не хочу я землю иметь, много работы требует, времени требует.
— Да что ты все — время, время! — рассердился Митрофан. — Много времени только расчистка тайги потребует, мы тебе расчистим.
— Все равно не хочу, я не привык к черной земле, не смогу летом в жару в тайге работать. Говорю тебе, свой хлеб много времени отберет — пахать надо, сеять надо, убирать надо, а когда я рыбу ловить буду? Как без юколы, без рыбьего жира зимой в тайгу пойду? Подумал ты? Нет, не надо мне своей муки, не навязывай русскую жизнь.
— Неужто к земле не притронешься?
— Нет, не хочу я земли, не притронусь.
— Никогда?
— Никогда. Жить буду, как жили: летом рыбу ловить, к зимней охоте готовиться, а зимой поймаю соболя — вот тебе и своя мука. Эх ты! Ты все лето в земле роешься, чтобы свою муку иметь, а я зимой за пять-шесть дней соболя поймаю.
«Леший его знает, судит он вроде верно, — думал Митрофан. — Может, он прав, может, отцу да бабам землю грызть, а мне за соболем бегать? Только научиться надо выслеживать, ловушки ставить!»
— Зимой я тоже буду в тайге промышлять, я к чему веду: летом бы я тебя учил хлеб сеять, а ты зимой бы меня к охоте приучал. А ты сразу на дыбы, как медведь.
— Ты обиделся? Я сказал, что в голове вертелось, не обижайся. Я тебе могу показывать, как ловушки ставить, как следы понимать, — это я могу. Только не хочу муку сеять.
— Не хочешь — не надо, никто тебя не неволит.
Опять замолчали. Митрофан покусывал травинку. Пиапон понимал, предложение Митрофана было искренним, подсказано добрым сердцем, и своим ответом он обидел его, но как нарушить возникшую неловкость, он не знал.
— Митропан, я подумал и решил — землю мне надо, — наконец сказал он. — Только немного. Знаешь, что буду сеять?
— Не знаю.
— Из чего делают сети, невода?
— Из ниток вяжут.
— А нитки из чего?
— Из конопли прядут...
— Во-во! Коноплю будем сеять...
Рыбаки проснулись и забросили невод. Улов оказался небольшой, и Баоса решил перейти на другое место. Там он в сумерках, спрятавшись от остальных ловцов, долго бил поклоны, просил хозяина реки уступить ему и его друзьям немного рыбы.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Крупные капли дождя хлестали по ее бледному лицу и по извилистым морщинам разбегались в разные стороны, как растекается вода по бесчисленным протокам Амура, потом вновь встречались на ее сухом подбородке и тонкой струйкой стекали на грудь старого, обесцветившегося халата. Ее поблекшие и воспаленные от дыма очага в фанзе, от копоти жирников глаза близоруко обшаривали верховье реки, тальниковые рощи. Дождь смочил ее островерхую, отороченную мехом шапку, холодной змейкой заползал под халат, но она будто не замечала этого. Только ветер донимал ее, и она укрылась за вытянутой на песок лодкой. Возле нее тоскливо, безнадежно глядя на противоположный берег, сидел рыжий, дрожавший от холода пес. Старуха несколько раз прогоняла его домой, но он, бросив на нее разумный, полный упрека взгляд, оставался на месте. Пес был любимцем Баосы, равноправным членом большого дома. Дубека не знала, какой подвиг совершил пес: муж никогда не рассказывает ей о своих охотничьих приключениях, но она тоже уважает пса за его кроткий характер, за смышленость, она привыкла к нему, как к старому жителю большого дома. Старики всегда уважают стариков, а пес давно уже распрощался с некогда волчьими клыками, и теперь Дубека готовит ему особую пищу, из отварной рыбы удаляет все кости, как для своих малолетних внуков. Она не могла объяснить, как пес узнает о возвращении хозяина, еще не видя его, когда тот находится за островом.
Вот и сейчас пес вскинул отяжелевшую голову, передние ноги его напружинились, уши зашевелились; как некогда в молодости, он коротко взвизгнул и завыл горько и протяжно. По сердцу старухи будто полоснули чем-то острым, она тоже напрягла зрение, вглядываясь в ту сторону, куда смотрел старый пес, но ничего не могла разглядеть в густой сети дождя.
— Тэкиэн, ты видишь их? Ты видишь? — прошамкала старуха.
Пес, будто понял вопрос хозяйки, мотнул головой. Старуха заметила лодку, когда та вплотную подошла к берегу. Не разглядев гребцов, она материнским чутьем угадала в них своих детей. Лодка уткнулась в песок, и тут откуда ни возьмись ее окружили женщины и с ходу вытащили лодку на берег.
Старуха подошла к поднимавшимся с сидений мужчинам и, беспомощно опускаясь на песок, воскликнула:
— У нас несчастье в большом доме!
Ее подхватили под руки Дяпа и Пиапон.
— Что случилось? — встревожился Полокто.
— Ты что, язык проглотила? — закричал Баоса. — Говори, что случилось! Говори же!
— Идари потерялась, — тихо промолвила жена Полокто Майда.
— Как потерялась?
— Когда?
— Человек не иголка, куда она потеряется?
— Собака и та уходит из дому, но потом возвращается, — сказал Баоса. — Чего понурили головы? Есть хотим, одни пусть убирают рыбу, другие есть подавайте.
Баоса, прихватив узкую длинную коробку для табака, зашагал в фанзу.
— Она вчера исчезла, ночь не переночевала, сегодня дождь, ветер, а ее все нет, — продолжала Майда.
— Куда она может уйти? — воскликнул точно отцовским срывающимся голосом Полокто. — Оморочки здесь, лодки тоже, куда она уйдет с острова? Здесь на острове мы знаем все тальники, все кусты, знаем, сколько зайцев, даже мышей. Поедим и пойдем искать. Накормите нас!
Пиапон с Дяпой под руки повели мать в фанзу.
— Она умерла, она утонула, — бормотала старуха. — Всю ночь не спала, весь день под дождем вас ждала... хоть труп найдите...
— Ничего, эне, успокойся. Мы сейчас, только поедим и пойдем искать, — успокаивал мать Дяпа. — Ты вся мокрая, зачем под дождем ждала?
— Она самая младшая, она самая последняя, — всхлипывала старушка.
Пиапон ел медленно, тщательно обсасывая каждое ребрышко вареного сазана, малыми глотками через край отпивал ушицу. Он думал. Права мать, не могла Идари потеряться возле дома, если даже что случилось с ней, могла бы докричаться. А что могло случиться со здоровой цветущей девушкой? Она могла только утонуть. Купалась и утонула. А купаться она ходила только ниже стойбища, потому что выше, на песчаной возвышенности между густых колючих кустов шиповника, низкорослых яблонек и черемухи, возвышались холмики — могилы. Туда она боялась ходить даже за хворостом. Надо идти вниз, если утонула, должна остаться одежда. Ох, как не везет нашей семье! Дед утонул на Амуре, дядя, теперь Идари. Хоть бы тело всплыло.
Пиапон исподтишка наблюдал за женщинами, ему казалось, что кто-то из них должен знать, куда ушла Идари. С кем же больше всего в дружбе была Идари? С Агоакой и с молодой женой Дяпы Исоакой. Вот они должны знать. Если бы Идари пошла купаться, то не могла не пригласить кого-нибудь из них.
Наскоро подкрепившись, мужчины разделились на группы и пошли на розыски. Пиапон высказал им свои мысли, по на этот раз никто не послушал его, и он один решил идти вниз по берегу протоки. Из расспросов двух молодых женщин он ничего существенного не выяснил. Только Агоака вела себя как-то странно, и Пиапон сгоряча чуть было не учинил допрос, но, как всегда, здравый рассудок взял верх, и он побрел по берегу навстречу не унимающемуся дождю и ветру. Шел он, пока не кончился отлогий песчаный берег, где обыкновенно, спрятавшись за густыми тальниками от детских и мужских глаз, купались нагие женщины и девушки. Дальше до конца острова тянулся крутой обвалившийся глиняный берег с крутящейся и пенящейся водой. Здесь резвились только верхогляды со вздернутыми носами, да мелькали красные плавники красноперок.
Пиапон не нашел ничего, даже следы на песке и те были побиты дождем. Он вернулся в стойбище и начал считать лодки и оморочки.
— Ага, я хочу тебе сообщить... — услышал он за спиной голос Агоаки.
Он обернулся. Агоака стояла под дождем с непокрытой головой, в легком ситцевом халатике и дрожала то ли от холода, то ли от возбуждения.
— Ага, ты никогда не кричал, мы тебя больше всех любим. Не кричи, тогда я что-то сообщу.
Пиапон промолчал.
— Ага, не мокни зря под дождем, иди домой. Идари нет в стойбище, она уже далеко, только я сама не знаю где.
Пиапон молча смотрел ей в глаза.
— Посмотри, у всех есть лодки, оморочки. Нет только лодки отца моего мужа. Отец моего мужа дома, мать тоже.
— Идари убежала с Потой? — быстро спросил Пиапон.
— Ага, ты только не говори отцу, что я сообщила, я сама только сегодня догадалась.
— Сучка! Как она посмела убежать! Как посмела опозорить нас, мужчин большого дома? — взъярился Пиапон и против воли схватил сестру за толстые косы. — Ты, ты знала, почему не задержала?! Позор, позор пал на наш дом! Что теперь будет? Что будет? Лучше бы умерла, сучка! Лучше бы умерла!
Агоака заорала диким голосом, Пиапон бессмысленно глядел на красно-белый провал ее рта, потом, придя в себя, отпустил косу сестры, зачем-то вытер мокрые руки о халат и, виновато опустив голову, вошел в фанзу. Не снимая мокрого халата, в мокрой обуви, он взобрался на чистую циновку пар и сел, скрестив ноги. Мать лежала от него неподалеку, отогревалась под теплым одеялом и не могла отогреться.
— Сын, скажи, что с ней? Нашли ее? Что случилось? — умоляла она и, не дождавшись ответа, продолжала со слезами повторять одно и то же.
Один за другим возвращались ушедшие на поиск мужчины, усталые, встревоженные, переодевались во все сухое, и каждый по-своему переживал свалившееся на их головы несчастье. Наконец вернулся глава большого дома. Вытерев с лица воду, он подошел к очагу и закурил чью-то женскую трубку.
— Все обошли? — спросил он осипшим голосом.
— Обошли. Под каждый куст заглядывали.
Баоса курил, лицо его стало кроваво-красным от отблески очага, а борода казалась струей стекавшей крови. Он изредка выпускал клубочки дыма. В доме царила тишина, старуха перестала всхлипывать, дети притихли между колен матерей, и все смотрели на старейшину дома.
— Утонула наша поянго, — дрожащим голосом проговорил Баоса. — Тело надо искать.
И тут точно буря хлынула в настежь открытые окна и двери — женщины, дети зарыдали, запричитали в один голос, из мужчин самые младшие, Дяпа и Калпе, сдержанно всхлипнули.
— Не ревите, зачем реветь? — негромко сказал Пиапон, но его все услышали. — Хватит. Кого вы оплакиваете? Сперва смоем наш позор, потом пусть кто хочет, тот оплакивает.
— Что ты говоришь?! Ты что говоришь?! — Баоса вскочил на ноги, длинная трубка с медной изящной головкой заплясала в его руке. — Что ты узнал? Пиапон, говори скорее!
И все на этот раз уставились на Пиапона. Дети примолкли и удивленно смотрели то на деда, то на Пиапона, и было от чего удивляться: дед впервые в их присутствии назвал сына по имени, и открылось им запретное для них имя одного из взрослых людей большого дома.
— Идари сбежала с Потой, она опозорила нас, своих братьев. Это позор.
— Убежала?! С Потой?
— Позор нам! Позор!
— В погоню! Надо догнать и убить обоих!
Поянго — самый младший, самый любимый сын или дочь.
Кричали все мужчины, даже только что рыдавшие Дяпа с Калпе надрывали глотки и требовали крови родной сестры. Один Улуска, побледневший, растерявшийся вконец, не проронил ни звука. Он сам не знал, как вести себя. Как равноправный член большого дома, он должен был требовать смерти беглецам, но, как брат Поты, он мысленно считал их безвинными, он догадывался о давней любви брата, знал, что Идари никогда не станет его женой, потому что ее должны были отдать в дом Гаодаги в обмен на Исоаку, и никакие даже сверхбольшие тори не помогли бы Поте; договоренность об обмене — это честь обоих больших домов, а честь за деньги не продастся. Размышляя над поступком брата, Улуска не мог не думать и о себе, ведь его положение «вошедшего» в большой дом довольно шаткое, он не выплатит тори, и в любое время у него могут отобрать жену, а его выгнать из большого дома. «Эх, Пота, Пота, что же, брат, с нами будет? Как мы несчастливы, что имеем такого отца, как наш. Ведь мы тоже могли бы жить не хуже других, будь у нас отец получше», — размышлял Улуска.
Баоса бросил на глиняный пол трубку и выбежал из фанзы, он бежал, как бегал в детстве, перепрыгивая через корыта для собак, пиная попавших под ноги собак. Вошел к Ганге зверем, хлопнул дверью так, что глина пластами отвалилась со стены фанзы.
— Сволочь ты, Ганга! Это ты научил сына украсть мою дочь! Мы теперь в вражде, это я пришел тебе сообщить! Кровью твоего сына...
Ганга, подобострастно встретивший соседа у дверей, переменился в лице, схватил Баосу за рукава халата.
— Ты что говоришь?! Что ты мелешь?! Сын мой за берестой уехал, рыбачить уехал.
— ...Ты понял, кто ты? Безмозглый ты, как косатка, тебя дети твои обманывают. Ты росомаха, твои дети бегут от тебя. Ты виноват, мы теперь в вражде, кровь только...
— Ты можешь меня ругать, собачий сын! Ругай! Ругай! У меня тоже есть гордость, хоть бедный мой дом, но честь имеет, понял, собачий ты сын? Я узнаю, я проверю, если мой сын вор, если он опозорил мою фанзу, я сам его убью! Понял ты? Я сам разыщу его и сам, своими руками убью! Ах ты, Пота! Я тебя убью, я тебя разыщу!
Ганга метался по фанзе, зачем-то срывал с нар постеленные циновки и бегал из угла в угол. Баоса смотрел на прыгавшего по фанзе разъяренного, как хорек, маленького Гангу и чувствовал, как сам понемногу успокаивается; только выйдя на улицу, он понял, от чего он избавился, — от кровавой вражды с другим родом, требовавшей длительного разбирательства, связанного с большими расходами. Если Ганга сам решил кровью сына смыть позор своего дома, то кровавой вражды с его родом не стоит и затевать. Баоса же разыщет беглецов, объездит весь Амур, все озера, протоки, не по воздуху же они будут убегать, оставят на земле след, не минуют человеческих глаз.
На следующее утро Баоса с сыновьями на большом неводнике выехали из Нярги. Лодка тяжело утюжила потемневшую воду протоки, ее больше несло течением, чем веслами гребцов. Ехали по левой стороне протоки до конца острова, потом наискосок пересекли ее и стали придерживаться берега, на котором находилась скала «Голова». Возле нее зимой охотники молятся, просят удачи. Когда лодка стала приближаться к ней, Баоса отложил трубку в сторону, попросил сыновей, чтобы те убрали весла. Вода бурлила, пенилась у камней, протока выходила здесь на широкий простор Амура.
Черные, обросшие лишайниками и травой камни, побитые водой и ветром, морозами и солнцем, бежали мимо, нависшие выступы сменялись глубокими ущельями. А «Голова», одинокая, голая, как череп, будто катилась навстречу лодке. Вот показалось трехугольное углубление у самого ее подножия, верхний угол ниши красно полыхает, будто от зарева. Предание говорит, будто здесь, в углублении, некогда сидел нанайский сказочный герой Мэргэн-Батор, и красные сполохи на камнях остались от его ярчайших украшений.
Лодка вплотную подплыла к «Голове», Баоса бросился на колени и, упершись ногами в один борт, стал бить поклоны. Помолившись «Голове» и попросив у нее помощи, Баоса сел на свое место кормчего, заткнул рот трубкой, словно закрыл его на запор.
С правой стороны, сразу за утесом, открылось русское поселение Малмыж — несколько дворов, пристройки к ним и отвоеванные у тайги десятины. Баоса направился в Малмыж, и не успели прибывшие вытащить лодку, как их окружила детвора.
— Гольды, гольдяки приехали! Айда сюда, гольдяки приехали! — кричали они.
Баоса с Пиапоном пошли к Колычевым, но не дошли еще до их пятистенного дома, как им встретился Митрофан. Он не видел ни Поту, ни Идари.
— Что случилось? Почему вы не заходите к нам? — встревожился Митрофан. — Отец обидится, зайдите на чаек.
— Некогда, некогда, — отбивался Баоса. — Пойдем к торговцу, может, он что знает.
Митрофан пошел провожать друзей и, узнав о беглецах и о намерении Баосы, только крякнул.
— Вы как цыгане, есть такой народ. А черкесы, те, говорят, по такому делу еще пуще лютуют.
У порога малмыжского торговца Терентия Ивановича Салова лежала корова и лениво жевала, закрыв глаза. Баоса, увидев ее, попятился и беспомощно оглянулся на Митрофана.
— Эй, Терентий Иваныч, выдь сюда! К тебе пришли тут, — позвал Митрофан.
Вышел толстый, кряжистый старик с красным лицом, с сизым картотечным носом. Он был одет в холщовую рубаху, в черные штаны, но босой.
— А-а, мои друзья прибыли? — обрадованно прохрипел Салов. — Заходьте, заходьте, милости просим. Давно вы у меня не были, все больше к китайцу У ездите. Обидно мне. Да ладно, что там. Заходьте.
— Терентий Иваныч, они только вас спросить заехали, — выступил переводчикам Митрофан. — Был у вас из Нярги паренек, Пота его кличут, не покупал в лавке чего?
— Зачем это спонадобилось им знать?
— Надо им знать, они его ищут.
— Вы что, покупать чего будете, может, на пушнинку чего будете менять?
— Нех, — помотал головой Пиапон.
— Так чего спытываете меня? Кто со мной торг имеет, тот узнает чего, а так я брехать не стану.
— Терентий Иваныч, был тот парень или нет?
— Не твое дело, Митрофанушка, с кем я торгую, я один ведаю.
Салов, не прощаясь, ушел домой.
— У, толстобрюхий черт! Нарочно не говорит. Что же теперь будете делать?
— Поедем, вниз по Амуру поедем, — ответил Баоса.
Так они и не зашли к Колычевым, попрощались с Митрофаном на берегу и выехали дальше.
— Смотрите не убивайте никого, тут на днях, говорят, из волости полиция будет, — предупредил Митрофан. — Тогда хватите горюшка...
«Полиция, шибко нужна мне твоя полиция, — зло подумал Баоса. — Мой дом опозорили, а не твою полицию. У нас свои законы есть, сами знаем, что делаем».
Лодка обогнула крутой Малмыжский утес и выплыла на широкий Амур. Мелкие волны в беспорядке метались, прыгали, сшибались и исчезали в коловерти. Могучая, широкая река неслась прямо на север, раздвигая сопки в сторону.
Дул прохладный низовик, нес гривастые серые облака. Погода не собиралась проясняться. Подошел полдень, гребцы приустали и часто поглядывали на отца. Баоса сам проголодался, но еды они не прихватили с собой, кончились дома запасы вяленой рыбы, копченого мяса, поэтому надо было тянуть до ближайшего стойбища Мэнгэн. Добрались туда только к вечеру: поднявшийся на Амуре шторм заставил их искать укрытия и кружиться по кривым протокам.
Мэнгэн стоял на острове и походил по своему обличью на Нярги, здесь были такие же глиняные фанзы с высокими трубами позади, амбары на четырех сваях, сушильни юколы, вокруг стойбища качался и гнулся под ветром тонконогий тальник.
Мужчины, дети вышли на берег встречать приезжих, женщины ждали, столпившись возле одной большой фанзы, шушукались между собой.
— Какие красавцы, все похожи один на другого.
— Видно, братья.
— Свататься приехали, что ли?
— Не похоже. Одеты скромно. Халаты не очень расшиты, наколенники бедноваты.
— Смотрите, женщины, вон у высокого, видите, какие интересные узоры на груди халата.
Мужчины тем временем помогли вытащить лодку и только тогда начали расспрашивать. Разговор начал высокий сухощавый старик Тогда Заксор, признанный мудрец среди людей рода Заксор, называемый ими дянгиан.
— Какое дело вас привело к нам? Что случилось в Нярги, почему вы так озабочены?
— Приехали к тебе, посоветоваться надо, услышать твое слово, — ответил Баоса.
Тогда привел родственников в свою фанзу, вернулся на берег, вынул из прутяного садка калужонка и отдал жене, чтобы готовила талу. После еды Баоса рассказал родовому судье о случившемся позоре большого дома, передал разговор с Гангой Киле. Тогда молча курил, сидя на краю нар, изредка сплевывая на земляной пол.
— Да, опозорил он наш род, — промолвил он наконец, — опозорил и имя отца. В старое время, в годы нашей юности, когда русских еще не было, молодого охотника никто бы не защитил.
— Теперь-то кто защитит его? Отец сам его убьет.
Дянгиан — начальник, руководитель, судья рода в данном случае.
— Может быть, убьет, потом его русские засудят по своим законам...
— Никаких законов мы не знаем! Найду я где беглеца, убью, какой русский узнает?
— Если кто из их рода сообщит русским?
— Отец сам собирается убить — он вор, он опозорил свой род.
— Убить человека — это не собаку убить.
— Он хуже собаки!
— Не надо горячиться. Ганга тоже зря горячится, надо было ему со своим родовым дянгианом посовещаться.
«Хочет за счет нашего дома пожить, — с недовольством подумал Баоса. — Состарился дянгиан, ум его притупился».
— Все же я буду искать беглецов, — сказал он вслух.
Вечером Гогда по просьбе Баосы пригласил в дом шамана Понгсу Дигора и попросил, чтобы тот разузнал о судьбе двух беглецов, проследил их дорогу. Шамана привезли на лодке, хотя он жил в этом же стойбище через фанзу. Он выпил несколько крошечных чарочек подогретой водки и отдыхал, сидя на краю нар. В дом Гогды потянулся народ, одни шли послушать шамана, другие взглянуть на приезжих, третьи шли сюда на свидание. Все на коленях кланялись шаману и садились в отдалении от него. Пришел знакомый Пиапона по охоте Американ Ходжер, молодой, коренастый, с бегающими скользкими глазами. Он подсел к Пиапону.
— Ну как ты, нашел су? — спросил Пиапон.
Несколько раз Пиапон встречался с Американом на охоте, приходилось с ним по два дня пережидать пургу в одном зимнике, Американ был замечательный собеседник, с ним никогда никто не скучал, он мог без устали рассказывать об охотничьих приключениях, при этом показывал все в движении, изображал охотника и скачущего раненого зверя. Одно надоедало Пиапону: Американ вел бесконечные разговоры о су, он мечтал разбогатеть. Пиапону и прежде приходилось слышать о су. Рассказывали про обладателя су любви, как тот склонял к любви непреклонную, честную женщину, как однажды он при народе, ради шутки, опозорил женщину, ударив ее легонечко по плечу, и у той свалился к ногам поясной ремень.
Су — талисман счастья, богатства, любви.
Рассказывали ему и об обладателе талисмана ловкости и силы, и об обладателе талисмана воровства, так необычного для нанай. Говорили, что он подчинил себе тысячи крыс, и те по его приказу за ночь могли перетаскать содержимое любого амбара. И этого человека люди боялись пуще огня, пуще всякой страшной болезни и бежали от него кто куда мог.
Американ мечтал о талисмане богатства, мечтал не про себя, мысленно, а при всех, вслух.
— Не нашел еще, — улыбнулся Американ. — Ты знаешь, я ведь недавно был в Малмыже, ездил к попу, он купал моего ребенка в святой воде, имя дал, а я, пока ехал домой, помнил, а вошел в фанзу и позабыл, решил по-своему назвать — Ченгис.
— Тебя тоже ведь в поповской воде купали, но не забыл ты свое имя.
— Забыл, это позже кто-то Американом назвал, — мах-пул рукой Американ. — Лишь бы бачика' не приставал.
— Бачика не пристает, он только крестится да песни поет. К нам раз приходит зимой, ругается, чего не крестимся, мы отдали соболя, он ушел.
— У нас тоже так. Ты скажи, почему разная цена одному и тому же соболю у русского торговца в Малмыже и у русского в Вознесеновке, и совсем другое у болоньского китайца, а?
— Откуда я знаю? Мы только болоньскому китайцу отдаем, мы ему много должны. А ты, двум русским торговцам продаешь пушнину и китайцу третьему?
— Нет, что ты! Откуда у меня столько пушнины! Я приглядываюсь к ним, у людей расспрашиваю. — Американ спрятал глаза. — Говорят, у вас сестру украли, верно?
— Украли. Опозорили.
Шаман надел юбку, кофту, подпоясался ремнем и занял свое место в середине длинных нар, ему подали подогретый перед очагом звеневший бубен, он ударил несколько раз и отложил в сторону. После этого желающие потанцевать шаманский танец выходили на середину фанзы, надевали пояс с побрякушками — янгпан, брали в руки бубен, колотушку — гисиол и совершали под смех или гул одобрения собравшихся несколько кругов обрядного танца. Восхитил всех мэнгэнцев Полокто, он так искусно танцевал и владел бубном, что люди, как зачарованные, следили за его ритмичными, плавными движениями, вслушивались в гремевший, стонавший и звеневший колокольчиками бубен.
— Этот человек лучше шамана бьет в бубен.
Бачика — искаженное «батюшка».
— Не шаман ли сам?
— А-я-я, смотрите, как танцует!
После танца шаман сам надел пояс — янгпан, сидя, тихо запел, изредка ударяя в бубен. Потом встал, прошел круг и неистово закружился в танце — все поняли, в шамана вселились его сэвэны — духи, и он отправился на поиски беглецов. Шаман кружился, прыгал и пел:
— Озера как бусинки на их пути, реки как нитки между ними...
— К востоку от нас, к западу? — спрашивал Баоса.
— Озера как бусинки, лодка как игла, — продолжал шаман.
«Куда же это они бежали? — ломал голову Пиапон. — Не туда ли, куда мы за берестой ездили? Там много озер: Шарга, Джалунское... как бусинки озера, река... Может, это озеро Болонь, потом по реке Симин, цепь озер... Где же это? Мало ли по Амуру озер, где же это?»
Шаман кончил гадание. Он в изнеможении опустился на нары, ему помогли снять шаманскую одежду, дали закурить.
«Где же они? Где? — думал Пиапон, с опаской поглядывая на шамана. — Дал понюхать кусок мяса, а в рот не положил. Подразнил только».
На следующий день преследователи продолжали путь вниз по правой стороне Амура, заезжали в стойбище Туссер, Хунгари, в русское село Вознесеновку, переехали на левый берег, заехали в стойбище Падали, побывали на озеро Падалинском, поднялись до стойбища Омми, поездили по озерам, заливам, ночевали у гостеприимных родственников, расспрашивали всех встречных, но не могли наткнуться на след беглецов.
«Столько людей всюду, не может быть, чтобы они не столкнулись с ними», — думал Пиапон.
Поднимались по левому берегу Амура и на шестой день, усталые, измученные, приехали в стойбище Болонь, находившееся против Малмыжа у входа в озеро Болонь. Как в каждом стойбище, их вышло встречать все население; мужчины, побросав недовязанные сети, недовитые веревки, шли на берег послушать новости, расспросить о своих родственниках. Охотники не выезжали в это лето в дальние поселения, о новостях в других стойбищах слышали только от приезжих, и потому понятна была их тяга к гостям. Баоса спешил, он коротко отвечал на вопросы, сообщил о здоровье, житье-бытье именитых соседей: шаманов, известных охотников, рыбаков, прославившихся когда-то чем-то старцев.
Оставив на берегу сыновей, он поднялся на круто обрывавшуюся к протоке террасу, по которой гуськом тянулись покосившиеся фанзы, амбары, пустые сушильни юколы. За стойбищем начиналась пологая сопка, по ней к облакам шагали зеленые клены, липы, почти черные в пасмурный день кедры. Вершину сопки накрыли серые облака.
Баоса отогнал набросившихся на него собак и вошел в большую просторную фанзу-лавку китайского купца У. Никто из охотников ни в Болони, ни в Нярги не звали китайца полным именем, всем нравилось это короткое запоминающееся У.
Фанза-лавка была пуста, хозяин, видимо, находился в соседней фанзе, где он жил с двумя женами-нанайками и с тремя детьми, как вылитые похожими на него. Баоса сел возле дверей, он часто на этом месте поджидал торговца. У никогда не закрывал свою лавку на замок, достаточно было подпереть дверь палкой, как делали все нанай, и уходи спокойно домой: ничего не исчезнет из лавки. Наконец явился торговец. Это был высокий длиннолицый человек с такими же косичками, как у всех нанай, только черты лица, крупный нос, открытые глаза выдавали в нем китайца.
— Бачигоапу, мапа, — поздоровался торговец. Он хорошо говорил по-нанайски. — Чего ты не вошел чай пить, видел я, как ты прошел в лавку, хотел старшую жену Супсэ за тобой послать, да подумал — может, ты торопишься.
Торговец У всегда был вежлив, разговорчив. Баоса не помнит, чтобы он когда вспылил, накричал на кого-нибудь, а по своему положению он должен был это делать, потому что охотники ни в один год не могут с ним полностью расплатиться. Сам Баоса каждый год сдает много пушнины, подсчитывают — долг погашен, но на крупу, сахар, водку, мануфактуру ничего не остается. Баосе приходится вновь влезать в долги: не оставишь же семью голодной. Китаец сердечный человек, он всегда припомнит про невесток, внуков и пошлет им гостинец. Это старому охотнику нравится. Баоса помнит и другого торговца, который был раньше У, тогда, когда русские на Амуре входили только в силу. Тот был злой человек, он избивал охотников, отбирал жен, дочерей-подростков и насиловал их. Вредный был человек, про него и вспоминаешь-то, как про вчерашнюю бурю. Хорошо, что его русские выгнали.
— Какое дело тебя привело к нам? Товары какие надо, может, крупы?
— Нет, не надо.
— Ты не бойся, Баоса, у тебя небольшой долг. Недавно наш Лэтэ Самар в тайге был, говорит, богатый урожай орехов ожидается, если орехи будут, белка обязательно будет. Чего ты боишься, впроголодь нельзя летом жить, где силы возьмешь на зимнюю охоту?
— Ты обожди, я сам знаю, брать мне или не брать чего.
— Да ты не возьмешь, уже вижу...
— Это мое дело...
— Охотники что-то пошли жидковатые, сам предлагаешь — и то не берут. Ты, Баоса, боязливый стал.
— Ничего не боязливый, у меня другое дело.
— Выдумываешь, никакого дела нет.
— Хорошо, я возьму у тебя крупы и муки, только ты мне скажи, у тебя был Ганга Киле?
— Что ему, оборванцу, у меня делать? Он у русских пятки лижет, его кругом русские торговцы обманывают, а он все к ним ходит.
«Сволочь ты, Ганга! — подумал Баоса. — Вот как ты ищешь своего сына, за шесть дней до Болони не добрался. Ну погоди!»
— Сын его не приезжал? Пота, младший сын.
— Не приезжал. Так, чего возьмешь? Сколько?
«Не приезжал. Куда он мог деться, не мог он сквозь землю провалиться. Надо у людей спрашивать, птицы по воздуху летают и то на глаза людям попадаются, а Пота не мог исчезнуть без следа...»
Баоса глядел на выставленные разноцветные ткани. Какие красивые халаты вышли бы из них! Себе он облюбовал черную дабу. Сшил бы из нее зимний халат для охоты, крепкие штаны, наколенники. Добрый материал, надолго бы хватило. И тут Баоса поймал себя на мысли, что эту дабу, да и много другого нужного ему материала он мог бы купить, если бы Пота заплатил тори за Идари. Баоса обкраден! Немыслимое дело, фанзы и амбары открыты, богатая лавка китайца никогда не запирается, но не было случая, чтобы пропала какая вещь из фанзы, амбара или лавки. А тут у него среди белого дня украли такую ценность — дочь. «Идари должна была без тори уйти в дом Гаодаги, обмен не получается. Гаодага будет у меня требовать тори за свою дочь Исоаку. Да, выходит, я ограблен Потой. Ну, нет, Пота, я тебя разыщу, я тебя, вора, на дне Амура разыщу!»
— Что с тобой, Баоса? — встревожился китаец. — Что ты будешь брать?
— Я домой не еду, груз не могу возить, не возьму...
— Ты, Баоса, еще обманщиком стал.
— Не называй Баосу обманщиком, слышишь? Я всю жизнь честно живу. Чтобы заткнуть твой рот, я возьму крупу и муку.
— Не сердись, Баоса, зачем сердиться? Сам же виноват: то беру, то не беру — вот и я. Да ладно, мы же друзья...
Баоса самодовольно закурил трубку, крикнул из дверей лавки сыновьям, чтобы те пришли за продуктами. Вернувшись на берег, он встретился со старыми друзьями Лэтэ Самарой, Дэрки Ходжером, Питросом Бельды, с которыми не раз встречался за годы жизни и на рыбалке и на охоте, раза два даже ездил с ними в китайский город Саньсин. Собрались и мужчины из рода Заксор.
— Оставим все дела, сегодня же выедем искать этого воришку! — кричали они.
— Что же выходит, Заксоры? Как же мы терпим такой позор, всякие Киле будут воровать наших сестер, а мы сидим, руками не пошевелим!
— Искать будем!
— Убивать не станем, пусть сами пострадавшие решают, что делать!
Люди из рода Киле находились тут же, им было неловко за поступок Поты, и они молчали, опустив глаза. Другое дело, если бы объявили вражду, тогда они сели бы в большие неводники и поехали на поддержку своих. Но трезвых голосов раздавалось больше. В Болони много семей жило из рода Бельды, которые женились и отдавали своих женщин другим родам, и какой бы род они ни взяли, кругом у них были родственники. Вообще на Амуре самый многочисленный нанайский род — Бельды, есть Бельды-Ходжеры, Бельды-Киле, Бельды-Пассары, Бельды-Гейкеры — все это перебежчики из других родов.
Из болоньских Бельды Баоса больше всех уважал своего сверстника Питроса — их родового судью. Когда он сравнивал своего судью Гогду с Питросом, то отдавал предпочтение последнему, но теперь, вслушиваясь в его речь, Баоса встревожился.
«И этот свихнулся, — подумал он. — При чем тут русские начальники? При чем их законы? Они по-нанайски разговаривать-то не умеют, не то что судебное дело разбирать. Зачем их звать, сами своих судей — дянгианов имеем, сами можем все решить».
— Чего это вы даже в дом не заглянете? — спросил Дэрки Ходжер. — Какое бы дело ни было, но надо зайти хоть чайку попить.
— Верно, а то сидят на берегу, будто посторонние какие, — поддержал его Лэтэ Самар.
Друзья пригласили Баосу с сыновьями в фанзу, накормили, дали отдохнуть. В это время болоньские Заксоры кто на оморочке, кто на лодках выехали на поиск беглецов по речке Натке и на озеро Болонь. Баоса решил подниматься по левому берегу Амура до стойбища Хулусэн.
— Может, домой заехать, продукты оставить, — предложил Пиапон.
— С голоду не умрут, Улуска дома, — ответил Баоса.
Пиапон недовольно отвернулся от отца, он не принимал больше участия в разговоре, сидел в глубокой задумчивости. Пиапон рвался домой, ему уже надоела эта бесцельная езда по Амуру и бесчисленным его протокам. В первые дни он на самом деле был зол на Идари и на Поту, но проходили дни, и он начал чувствовать, как улетучивается его гнев, и стал ловить себя на сочувствии к младшей сестре и оправдании поступка Поты. Началось это с его встречи с первой любовью в стойбище Омми; остроглазая, с кокетливыми ямочками на белых, необычных для нанайки, щеках, веселая хохотушка Бодери осталась такой же молодой, свежей и красивой, как в дни молодости, в дни их страстной любви. Никто на земле не знает, что пережил Пиапон, когда Бодери после свадьбы выезжала к мужу в Омми, не видел его горючих мужских слез. Будь он таким же смелым, как Пота, Бодери теперь была бы его женой. Почему он тогда так же не мог украсть любимую и сбежать в тайгу? Бодери еще до рождения была наречена теперешнему мужу, отцы их дружили, были кровными братьями — один другого спас на охоте, — и потому отец Бодери не отдавал дочь за Пиапона ни за какие деньги.
Пиапон встретил любимую, видел, как у нее загорелись глаза, голос дрожал от волнения. Услышав, почему Пиапон оказался в Омми, она взглянула на него, и он заметил, как изменились в одно мгновение только что сиявшие глаза, а слова ее полоснули ножом по сердцу: «Храбрый охотник, я бы на твоем месте не стала его преследовать».
После встречи с Бодери что-то оборвалось внутри Пиапона, ему все больше и больше становилось ненавистной роль преследователя, его тянуло домой, к своей оморочке, ружью, остроге. И прежде, если он день не брал в свои руки ружье, сеть или острогу, то к вечеру не находил себе места и выезжал выставлять на ночь сети. А тут он больше шести дней зря мутит веслом воды Амура, протирает штаны о сиденье. Хочет смыть позор? Пиапон размышлял о поступке Поты, хотел, как несколько дней назад, видеть в нем нанесенный большому дому позор, но мысли переплетались с Бодери, с ее словами, и он никак не мог объяснить себе, в чем заключается позор, — беглецы выглядели в новом свете.
После полудня Баоса засобирался в путь. Дул средний низовик, и он думал на парусе до наступления ночи добраться до Хулусэна. Болоньцы вышли провожать гостей, и тут один из них заметил оморочку, приближающуюся со стороны Амура. Начали гадать, кто бы это мог быть — болоньский, няргинский или мэнгэнский, пытаясь по взмаху весла, по оморочке определить возраст охотника. Оморочка приблизилась, и Пиапон узнал Улуску. По торопливым взмахам весла, по возбужденному лицу он понял, что в большом доме произошло неладное.
«Поймали их», — вдруг с тревогой подумал он.
— С нехорошей вестью спешит, — сказал Лэтэ Самар.
Улуска подъехал, не здороваясь, вытер с лица пот и проговорил:
— Мать Полокто умирает.
Никто не ожидал такой новости, и толпа замерла, глядя на Баосу.
«Нашла время умирать», — с досадой подумал Баоса.
— Жива еще? — спросил он.
— Не знаю, утром еще дышала.
Гребцы сели по местам, и лодка двинулась навстречу ветру, навстречу черным волнам. За стеной густого тальника проплыли по протоке и вышли на Амур. Крутые волны лениво набегали одна за другой, вспениваясь, разваливались, мельчали и начинали беспорядочный танец. Гребцы налегли на весла, и лодка переплыла Амур чуть ниже Малмыжского утеса. Улуска остался в Болони и должен был нагнать лодку в Малмыже.
«Как он переплывет Амур на оморочке», — думал Пиапон; сузив глаза, он рассматривал оставленный левый берег.
Вслед за ними из-за болоньской сопки выплывала грозовая туча и с глухим ворчанием поднималась против ветра. Лодка была у Малмыжа, когда вдруг стих низовик и наступила тревожная тишина. Улуска переплыл Амур и догнал лодку.
— Гроза нас догоняет, — сказал Пиапон. — Может, переждем?
Баоса оглянулся.
— Пройдет, — ответил он.
Лодка подошла к скалам, к бешено крутившей коловерти и, несмотря на усилия гребцов, продвигалась медленно. Пиапон смотрел на нагнавшую их грозовую тучу и со страхом ожидал грома. Ударил шквальный ветер в лицо, и завихрилась над протокой, точно развеваемый пепел, водяная пыль. Туча клокотала над головой, она словно пузом утюжила вершину скалы и выжидала чего-то. Пиапон не смотрел на тучу, он следил за медленно уползавшими назад камнями, прилипшими к ним лишаями.
Баоса вел лодку вплотную к скалам, кончики весел доставали до камней. Пиапон поднял голову и вдруг увидел, как ослепительно яркая стрела распорола небо и метнулась к вершине скалы. Пиапон видел, как развалился расколотый ветвистый дуб, и страшный гром на мгновение оглушил его. Он рванул правым веслом, лодка круто повернулась от берега, и тут Пиапон оцепенел от страха: большие куски камня катились со скалы, подпрыгивая на выступах, крошась от ударов и взметая пыль и щебень.
Пиапон, озверев от страха, греб что было силы и кричал сам не помня что. Отец, бросив рулевое весло, усердно бил поклоны эндури, не щадя лба. Первый камень плюхнулся левее лодки, обдав взметнувшейся водой молившегося Баосу. Второй упал вслед за первым и царапнул борт лодки. Пиапон кричал и греб дальше от страшного берега, он не видел, как небольшой кусок свалился на оморочку Улуски и как тот скрылся в волнах среди кипящей пены. Он ничего но видел, кроме катившихся на него камней, не слышал свиста осколков возле уха, дробного стука щебня об лодку, не заметил даже боли, когда щебенка ударила в непокрытую голову. Баоса, сгорбив спину, продолжал неистово молиться эндури. Небольшой камень ударил его в голову; он растянулся на дне лодки и, теряя сознание, неумело и неловко перекрестился по-христиански, тыча в лоб растопыренными пальцами.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
В фанзе стояла невыносимая духота, черные, припорошенные сажей стены дышали жаром, от травяной крыши струилось тепло. У открытой двери, облизываясь, смиренно сидели полинявшие, лохматые, истощенные собаки и не спускали глаз с очага и с хозяйки.
Пота осторожно перешагнул через них, стараясь не наступить на хвосты, и прошел за фанзу к тальникам. Здесь В прохладной тени лежал неведомо каким путем появившийся посреди песчаного острова серый валун. Пота с детских лет полюбил этот валун, тут он целыми днями строил песчаные дома, строгал луки и стрелы, а уже юношей приходил сюда делиться своими мыслями и тайнами. Валун уже давно знал о его любви, о том, что Пота хочет жениться на Идари. После возвращения с удачной охоты на пантачей Пота часто беседовал с валуном, советовался, что ему купить на тори, что ему сейчас подарить любимой — ткань на халат, ушные серебряные серьги или серебряный браслет.
Валун молчал, он, по-видимому, знал, что у Поты нет ни пушнины, ни денег на подарки. А когда юноша нашел серебряную русскую монету, валун подсказал изготовить из нее серьгу для Идари. До сих пор Пота уверен, что эту мысль ему подал добрый древний валун. Он же и разрешил на своей спине ковать монету. Это была долгая и сложная работа. Пота камнем плющил монету, потом вытягивал из нов длинный и тонкий прутик, бугорки и вмятинки на прутике полировал песком и пемзой. Юноша не помнит, сколько Дней он трудился над серьгой, часто ему приходилось отрываться от работы, чтобы наловить рыбы и накормить родителей, в это время валун хранил под собой серебряный прутик. Наконец, когда прутик был отполирован, Пота сделал на одном конце крошечное колечко, на другом конце загнул крючок. Серьга вышла большая и красивая.
«Она должна прикрыть губы, — с удовлетворением подумал Пота, примеривая серьгу. — Хороша! Ни у одной женщины в Нярги нет такой серьги. Завидовать будут, наверно, спросят, где она достала ее».
Два дня назад он подкараулил Идари на берегу протоки и незаметно передал ей свой драгоценный подарок. Девушка взглянула на серьгу, вся зарделась, и загоревшиеся радостью глаза ее благодарили любимого. Пота не мог еще раз приблизиться к ней: они находились на голом песчаном берегу на глазах всего стойбища.
— Сам сделал, — сказал он вполголоса, делая вид, что прибирает в своей оморочке. — Идари, когда я тебя еще увижу?
Девушка прошла к воде, приподняла полы халата, заголив смуглые икры, зачерпнула ведрами и, возвращаясь мимо, ответила:
— Не знаю.
— За дровами не поедешь?
— Не знаю.
— Приходи вечером к валуну.
Идари прошла, она ничего не ответила.
Пота ждал ее в тот вечер, ждал и вчера до полуночи, но Идари не пришла на место свидания. Два вечера Пота беседовал с валуном и сейчас, продолжая тот же разговор, спросил:
— Не любит меня Идари, верно, не любит?
Валун был теплый, его разогрели солнечные лучи, пробившиеся между листьями тальника. Он молчал — видно, уснул. Пота тоже не склонен был к долгим разговорам, взобрался на камень, растянулся вверх животом и уснул. Сквозь сон он слышал, как разодрались собаки возле фанзы, окрик матери.
«Кормит», — лениво промелькнуло в сонной голове.
Он проснулся от прикосновения чьей-то руки, открыл глаза и увидел милое лицо Идари.
— Ты? — не веря глазам, спросил он. Вскочив на ноги, он обнял любимую. Девушка прижалась к нему, плечи ее затряслись. — Что ты, Идари? Что с тобой?
— Приходи вечером на нижний конец острова, все узнаешь, — рыдая, ответила Идари.
— Скажи, что произошло?!
— Вечером узнаешь.
— До вечера еще долго.
Идари вырвалась и побежала домой.
Пота так растерялся, что даже и не попытался ее догнать, только смотрел ей вслед широко открытыми глазами. Опомнившись, он задумался, перебрал в памяти все события, вспомнил встречи с Идари, разговоры, и вдруг его будто кто ударил по голове:
— Отдают ее замуж?!
Он вскочил с валуна и, как укушенный бешеной собакой, забегал вокруг камня.
— Отдают! Отдают мою Идари!
Потом встал на колени перед валуном, обнял его.
— Скажи, скажи, добрый камень, что мне делать? Отбирают у меня любимую Идари, другому отдают. Что мне делать? Я не хочу ее уступать. Слышишь, я никому не хочу ее уступать! Я убью Чэмчу, скажи только «убей». Ну, скажи. Молчишь? Ты всегда молчишь, когда мне трудно. Что мне делать?!
Весь день Пота не находил себе места, успокоился он только к вечеру. Тальниками он пробрался к месту свидания. Идари еще не пришла в условленное место. Пота подошел к самому краю обрывистого берега реки, встал между тальниками. Берег рушился, куски глины время от времени отваливались и с плеском падали в бурлящий поток. Белели корни тальника, змеями свисали к воде и почему-то казались Поте обнаженными костями животного. Левое Поты лежал свалившийся старый тальник, вода подмывала его, обрывала листья, ломала сучья, но он продолжал бороться за жизнь, он цеплялся всеми корнями за землю, за родной остров.
«Вот обвалится сейчас подо мной земля, я свалюсь, и меня унесет поток», — с грустью подумал Пота.
Вдруг его кто-то схватил за руку и оттащил от обрыва. Это была Идари.
— Ты что делаешь? Разве так можно? Видишь, берег все отваливается и отваливается, — испуганно сказала она.
— Не бойся, подо мной крепкая была земля.
— Все равно опасно.
— Ты боишься за меня, это правда?
— Испугалась сильно, думала, ты нарочно встал...
Пота взял девушку за руки, отвел дальше от берега, чтобы шум воды не мешал их разговору. Нашел песчаную полянку среди тальников, посадил ее и сам опустился рядом.
— Я уже знаю, почему ты плакала, — сказал он тихо. — Когда?
— В какой день — не знаю, отец Чэмчи говорил, надо поженить раньше кетовой путины.
— Торопятся... до весны бы... я бы втрое больше тори предложил...
Идари опять заплакала. Пота обнял ее, прижал теплую головку к груди.
— Нам не быть вместе... не отдадут меня тебе...
Пота сам знал, что Баоса не отдаст ему дочь, но он силой воли долгое время заставлял себя верить в счастливую развязку. Теперь наступит конец этому долгому благостному сну, теперь надо немедленно принять какое-то небывалое в жизни нанай решение.
— Ты только это хотела сообщить?
— Да... нет...
— Может, что придумала?
— Я... я лю-блю... тебя. — Идари рыдала, она не могла произнести слова.
Пота крепче обнял любимую. Он еще днем принял решение и потому сдерживался, старался быть спокойным, уравновешенным, иначе нельзя: с этого дня он семьянин, у него жена.
— Успокойся, любимая, успокойся, мы с тобой всю жизнь будем вместе, я тебя никому не отдам.
Как ни сдерживался Пота, голос его дрожал, дрожали и руки, обнимавшие девушку.
— Мы будем жить счастливо, всю жизнь будем вместе, у нас будет сын...
Идари слушала, она верила каждому слову любимого, хотя не знала, как Пота хочет обойти древний родовой закон о браке, о долге.
— Я освобожу тебя, — Пота помедлил. — Я убью Чэмчу. Идари встрепенулась, подняла голову.
— Что ты говоришь? Что ты говоришь? Тебя же потом убьют! Не убивай, не убивай, тебя потом убьют. Тумали — люди жестокие.
Пота сжал ладонями головку Идари и, глядя ей в глаза, спросил:
— Ты со мной убежишь?
— После того как ты убьешь Чэмчу?
— Да.
— Не убивай, не убивай, тебя разыщут, убьют.
— Не трону я Чэмчу. Убежишь?
— С тобой?
— Со мной вдвоем.
— Как? Насовсем?
— Если вернемся или разыщут, нас убьют обоих.
Идари опустила глаза. Для нее это было неожиданностью, она никогда не слышала, чтобы юноша с девушкой, поженившись, убегали от людей. Бросить отца, мать, братьев и сестер, родной дом и бежать с любимым, бежать далеко-далеко, чтобы никто и никогда не разыскал. Если разыщут — смерть. Сердце девушки сжималось от страха.
— Я все обдумал сегодня, решай теперь сама.
Если остаться дома, то жить всю жизнь с нелюбимым Чэмче и думать о Поте, только издали ласкать его глазами, и никогда он больше не обнимет ее, не прижмет вот так теплыми ладонями голову, не посмотрит в глаза. Любить его, а жить с другим. А он храбрый, он убьет Чэмчу, а потом его убьют люди из рода Тумали, они злые, мстительные люди.
— Решай. — Пота отпустил голову девушки.
Идари утром еще, услышав разговор отца с Гаодагой, решилась вечером встретиться с любимым, решилась отдаться ему и жить с ним до свадьбы с Чэмчой — хоть короткое и горькое, а все же счастье. Она пришла на эту встречу с Потой с решимостью загнанной косули, у которой не было другого выхода, как очертя голову броситься в бездну. А Пота предложил бежать, будто приоткрылся кусочек неба в сплошной грозовой туче. Бежать, бежать с любимым, он предлагает любовь и счастье на всю жизнь!
— Боишься!
— Боюсь, я никогда не убегала...
— Я тоже не пробовал раньше.
— Не догонят нас?
— Не знаю.
— Если догонят...
— Убьют, меня убьют, я же тебя украл.
— Как — украл?
— Так. Украл и убежал.
Идари приподняла голову, попыталась по выражению лица Поты разобраться, смеется тот или говорит всерьез, ко ничего не разобрала.
— Я твоя, не надо воровать.
— Бежишь?!
— Люблю тебя...
Пота стремительно обнял девушку, стал целовать ее в щеки, в шею, по от счастья не мог подобрать слов благодарности и только целовал, целовал ненасытно.
Идари опять заплакала, плакала она теперь от переполнившего ее счастья, оттого, что решилась на такой страшный жизненный шаг и заодно прощалась с любимой матерью, с нежной сестрой Агоакой, со вспыльчивым горячим отцом, с братьями.
Возвращались поздно. Звезды подмигивали им с небесной черноты, теплый шаловливый ветерок ласкал разгоряченные щеки, отгонял от влюбленных незваных комаров и мошек. Пота бережно вел ставшую в этот вечер его женой Идари, отодвигал ветви тальника, сбивал с травы раннюю росу, чтобы молодая жена не замочила ноги. Сам он горел, был горяч, как валун в солнечный день, и когда падали капли росы на его тело, ему казалось, они с шипением улетучиваются. Пота не мог поверить своему счастью и, ища подтверждения, еще и еще раз принимался допытываться у Идари:
— Ты правда жена моя? Правда жена?
Девушка стыдливо опускала голову, но Пота замечал ее горевшие глаза, будто самые крупные звезды с неба переместились в них.
На следующее утро Пота захватил панты, небогатое охотничье снаряжение, одежду, острогу, все сложил в лодку и выехал из стойбища. Никто его никогда не провожал, когда он выезжал на охоту или рыбную ловлю, не собирал его пожитки, и на этот раз он выехал никем не провожаемый. Никто не видел, что он погрузил в лодку, и никто не удивился, почему охотник с ружьем, с острогой вдруг ни с того ни с сего вместо оморочки сел в лодку: охотник на лодке выезжает только осенью, когда отправляется перед ледоставом на зимний промысел.
Пота в этот день съездил в Малмыж к русскому торговцу Терентию Салову, продал ему за полцены панты, закупил на все деньги муки, крупы, сахару, отрезы на халаты себе и жене и к сумеркам возвратился в Нярги. Он не стал въезжать в стойбище, пристал на краю острова, куда должна были прийти Идари. Долго ждал Пота молодую жену, сумерки сгустились, и земля укрылась черным одеялом ночи, в стойбище собаки прочищали горло перед сном — выли долго и заунывно. Жизнь с детства приучила Поту к хладнокровию, закрепила нервы: на охоте ли, на рыбной ловле, чтобы заполнить желудок, прежде всего надо было приучиться выжидать. Этим искусством юноша владел в совершенстве. Но то на охоте и на рыбалке, а тут он ожидал жену — от прежнего хладнокровия не осталось и следа. Пота до ушной боли прислушивался к шорохам, к ночным звукам, принимался вышагивать по берегу, чтобы отвлечься от всяких глупых мыслей, предположений, но они не оставляли его, они, словно комары и мошки, роем кружились одна нелепее другой.
Когда собаки второй раз затянули свою долгую песню, Пота не выдержал, ему стало так тоскливо, что хоть впору самому завыть. Он побежал в стойбище.
— Пота! — будто ветер прошептал на ухо.
Юноша остановился. Темнота раздвинулась и выпустила Идари.
— Что же ты так долго? Нам же... садись на корму, рули...
Идари собралась запротестовать, нельзя же мужчине грести, когда в лодке сидит женщина, но Пота поднял ее на руки и посадил в лодку. В эту ночь они переплыли Амур и на рассвете, не доезжая до стойбища Болонь, спрятались в тальниках в узком заросшем заливчике.
— Куда мы едем? — спросила Идари, влезая под теплое одеяло.
— Бежим.
— Куда?
— Тебе не все равно? — усмехнулся Пота и обнял жену. Только немного спустя он ответил: — Вниз по Амуру нельзя нам бежать, всюду людские глаза, не проскользнем. Понимаешь ты, каждый встречный человек, будь он хороший, плохой, брат, друг — все теперь нам враги, каждый из них укажет твоему отцу нашу дорогу. Вверх бежать — это одно и то же, что вниз. Решил я податься к озерским нанай, на горную реку Харпи, только надо ехать так, чтобы нас но видел ни один глаз. Ночью будем плыть, днем спать.
— Ты знаешь те места?
— На реке не заблудишься, плыви против течения — и будешь на истоке.
— Кого-нибудь ты знаешь из озерских?
— Нет.
— Как тогда жить?
— Вдвоем будем жить, подальше от людей. Мы поднимемся по Харпи как можно выше, дальше всех. Там зверя много, соболи есть.
Весь день беглецы пролежали под накомарником, грызли юколу, копченое мясо и боялись развести огонь, чтобы дымом не навлечь беду. В следующую ночь они выплыли на озеро Болонь. Когда утром Идари окинула глазом все озеро, она изумилась его размаху. Озеро, казалось, не имело конца и краю, оно сливалось с голубизной неба, так обманчиво отсвечивала гладь воды.
— Наверно, море такое, да? Другого берега не видать.
— Это нанайское море, — улыбнулся Пота.
После полудня подул низовик, он все свежел и свежел, вскоре на озере загуляли крутобокие волны в белых накидках. К ночи поднялся шторм, и озеро зашумело, зарокотало. Пота соорудил из бересты навес, перенес под него продукты, вещи. Шторм задержал беглецов.
— Нас уже ищут, а мы не можем дальше ехать.
— В такой шторм и они не выедут на Амур, — ответила Идари.
— Храбрая ты, на твоем месте другая не посмела бы сбежать.
— Если бы я не любила, тоже не сбежала бы.
— Ты не жалеешь, что ушла из дома?
— Нет. Только боюсь.
На другую ночь беглецы впервые наткнулись на человеческое жилье. Пота, задумавшись, не заметил, как заскрипели весла, и тут с берега внезапно залаяли собаки. Беглецы замерли. Их спасла темнота.
Днем из своего убежища Пота наблюдал, как два молодых парня на озеро острогой кололи выплывших на солнечное тепло толстолобов. Будь Пота в ином положении, он немедленно выехал бы на середину озера, показал бы этим молодцам свое мастерство, зоркость глаз, точность рук. А Идари по-женски рассуждала о зимних запасах жира, рыбьей коже на обувь, на одежду, кроме того, ей хотелось свежей ухи, она уже несколько дней не брала в рот горячей пищи.
С этой тревожной ночи Пота стал еще более осторожен, держался подальше от берега, следил, чтобы не скрипели весла, выискивал убежище на дневку в самых глухих местах с густым тальником. Только добравшись до устья Харпи, беглецы вздохнули свободнее, позволили себе побаловаться горячей кашей, поели талу из сазана, добытого острогой, а из остатков сварили пахучую сытную уху.
— Теперь можно не прятаться? — спросила Идари.
— Еще осторожнее надо быть, — ответил Пота. — На озере летуют озерские, там же много болоньских, если нас увидят, то завтра же твой отец узнает, где мы.
Поте самому хотелось обрести прежнюю свободу, ему надоело, как зверю, прятаться от людей, быть преследуемым, в последние дни во сне он часто видел себя в лосиной шкуре, когда нагибался к роднику, из воды на него удивленно смотрела горбоносая тяжелорогая лосиная морда, не успевал он утолить жажду, как слышался шум погони, и он опять устремлялся к далеким недосягаемым горам с алмазными макушками; горы сверкали, манили... Он просыпался весь в поту и потом не мог уснуть до вечера и так, не отдохнувший, невыспавшийся, садился за весла.
Каждый раз, когда он брал весла, Идари упрашивала его, стыдила, но он ни разу не разрешил ей погрести. Пота исподволь следил за ней, и чем больше узнавал ее, тем она становилась ему дороже, в нем ощутимо росла гордость за жену, теперь он был уверен — Идари перенесет все мучения, все невзгоды.
С входом в Харпи беглецы вынужден были плыть днем: Пота не знал реки, и в первую ночь они плутали по ней, наезжая то на нависший тальник, то на гладкий, вылизанный волнами песок, то на обрывистый берег, потом они въехали в одно из ответвлений реки и застряли в густой заросли тальника. Пришлось там и заночевать. Утром за веслами сидела Идари, а Пота стоял на корме, правил лодкой и зорко всматривался вперед, надеясь первым заметить приближающуюся опасность. Но река всюду таила опасность: то она выпрямлялась, предательски обнажая беглецов, которым негде здесь было спрятаться, то петляла, и каждый кривун таил за собой внезапную встречу с людьми. Пота уставал от нервного перенапряжения, он начал делать остановки, как только натыкался на удобное убежище. Во время одной из таких остановок мимо них по реке проплыли две оморочки и две лодки. Беглецы сквозь листву тальника видели женщин за веслами, ребятишек на середине лодки, слушали разговор охотников. Пота заметил, как побледнела жена, молча обнял ее и прижал к груди — она дрожала, как листочек тальника на ветру.
— Все хорошо и дальше так же будет, я их давно заметил, потому и спрятал лодку, — солгал Пота, чтобы успокоить ее.
Немного выше от этого места беглецы обнаружили чей-то продовольственный амбар, дверь которого, как и во всех стойбищах, была подперта палкой. Пота нашел в амбаре кренделя копченой сохатины, связки юколы и пополнил истощившиеся запасы продуктов, а взамен взятого оставил муки и крупы. Теперь можно ехать, не теряя времени на рыбную ловлю и на охоту. Проплыли еще три дня, питаясь только юколой и копченым мясом, чтобы дымом костра не выдать себя. На четвертый день Пота не выдержал: услышав кряканье уток, он спрятал лодку, взял острогу и пошел к озеру, шагая по грудь в налившейся соком траве. За ним, боясь отстать от мужа, бежала Идари. Кругленькое, как серебряная монета, небольшое озеро открылось внезапно, сразу же за густой стеной травы. Два выводка уже крупных утят, мелькнув острыми задками, без шума скрылись под водой, оставив расплывшиеся круги.
— Эх, почему я не взял свою собаку, — вздохнул Пота, — она так ловко уток берет, сейчас бы всех утят подобрала. Ладно, ты мне поможешь. Иди по берегу вокруг озера, шуми, шурши травой, бей палкой по воде — вот и все твое дело.
Идари скрылась в высокой траве. Пота видел только, как колышется трава да изредка мелькает синий дабовый халат жены. Он выискал место, где камыш был пореже, и притаился. Прошло немного времени, камыш зашуршал, и юноша увидел линялого селезня кряквы. Пота метнул острогу, за это едва уловимое мгновение селезень успел нырнуть, но тут же вынырнул на конце трехпалой остроги.
— Сазаны ни разу не обходили меня, куда уж тебе, — усмехнулся Пота, взял трепыхавшегося облезлого селезня, по-собачьи прикусил ему голову и опять замер. Идари гнала на него притаившихся в озере беспомощных уток, неокрепших утят, и он беспромашно нацеплял их на острие остроги. Пока жена совершала обход озера, он убил больше десяти уток. Возвращались они на берег веселые и возбужденные, предвкушая сытную, горячую еду. Опять впереди шагал Пота.
— Будем варить одно мя... — он не досказал слова и остолбенел, не в силах сделать шаг. Идари выглянула из-за спины и увидела возле своей лодки чужую, на корме которой сидел, поджав под себя ноги, плотный, моложавый мужчина, а на гребях, бесстрастно глядя на беглецов, курили две молодые женщины, как видно, жены. Пота так растерялся от неожиданности, что почувствовал, как деревенеют ноги, все тело, язык.
— Бачигоапу! — поздоровался незнакомец. — А-я-я, какой охотник, острогой столько уток убил! А я тоже приехал на это озеро, «это мое любимое озеро, здесь моя собака каждый раз собирает столько уток, что я еле до берега волоку связки.
Пота кое-как овладел собой, ответил на приветствие незнакомца и опустился на траву, чувствуя дрожь в ногах. Рядом села Идари. Незнакомец вылез из лодки, подошел к Поте и протянул свою зажженную трубку.
— Вижу, вы не наши озерские, — сказал он, — издалека, видно, едете.
— Издалека, — ответил Пота, выпуская изо рта дым. Идари принесла его трубку и с улыбкой подала незнакомцу.
«Ох, какая она умница, — восхитился Пота. — Сама испуганная, белая как сахар, а улыбается».
Потом Идари преподнесла свою трубку одной из женщин, которая ей показалась старше.
— Жена, вари еду, гостей надо угощать, — сказал Пота, чувствуя, как с каждым ударом сердца возвращаются силы и уверенность.
— Это вы гости. Эй, женщины, котлы развесьте, — приказал незнакомец. — Я сейчас схожу с собакой на озеро, там еще должны быть утки.
— Зачем ходить? — запротестовал Пота. — Разве всем нам не хватит этих уток? Давайте все сварим вместе.
Незнакомец согласился, и жены его стали помогать Идари щипать уток.
— Ты вверх плывешь? — спросил он.
— Вверх.
— Куда добираешься?
— Я в этих местах впервые, буду подниматься, насколько река позволит.
— Далеко. Там никто не живот, все стойбища находятся ниже.
— Охотиться хочу там.
— Откуда сам-то?
— Из Нижних Халб, — солгал Пота. Он давно думал над этим ответом, выбирал многие стойбища, которые он мог бы выдать за родное; верхние стойбища не подходили, потому что говор верховских сильно отличался от говора няргинских, и потому он мог назваться только низовским нанай, говор которых был близок к няргинскому. Лучше было бы, конечно, ему назваться хунгаринским или падалинским, но он боялся, что среди озерских найдутся люди, которые знают всех жителей этих стойбищ.
— Из Нижних Халб, — повторил незнакомец, — далеко добрался. Чего же на Горин не поехал, там ведь тоже есть озеро, горная река, вот как здесь?
— Новое место хотелось увидеть, на Горине я бывал.
Идари вела беседу с женщинами, она остро прислушивалась к разговору мужчин, запоминала ответы мужа, чтобы не попасть впросак. Но женщины вели только чисто женский разговор о хозяйстве.
А незнакомец продолжал расспрашивать о жизни на Горине, в Нижних Халбах, зачем-то ему понадобилось знать, работают или нет халбинцы на русских.
— Аба, дебоаси, — ответил Пота.
— Хорошо делают, — сказал незнакомец. — Что интересного сено косить? Говоришь, вверх плывешь? Выходит, вместе будем ехать, я тоже вверх плыву, на озере жил, теперь домой возвращаюсь.
Пота насторожился, ему казалось, что сейчас начнется разговор о беглецах.
«Не может быть, чтобы он на озере не слышал о нас», — подумал он.
Но незнакомец повел разговор о рыбной ловле, об охоте, он оказался веселым собеседником, звали его Токто Гаер. Пота назвал себя Чэбену.
Аба, дебоаси — нет, не работают.
Теперь Пота не боялся встречных, всем он мог назваться Чэбену из далекого низовского стойбища Нижние Халбы, это подтвердит новый его знакомый Токто Гаер.
На следующий день на одном из кривунов они нос в нос встретились со спускавшейся сверху лодкой. Пристали к берегу. Мужчины обменялись трубками и закурили. Токто расспрашивал новости у хозяина лодки Кирбы, рассказывал, как сам провел месяц на озере, как ловилась рыба.
— Дождался я там своего родственника, вот он, — показал Токто на Поту. — Это сын брата моей матери, жили они в стойбище Мэлки, но теперь он совсем переезжает к нам жить. Ты, Кирба, может, с ним вместе охотиться будешь, он немного моложе нас, но ловкий.
Пота не поверил своим ушам, он хотел только запротестовать, но тут Токто схватил его за руку, сжал и слегка тряхнул.
— Руки у него посмотри какие сильные, — продолжал Токто, даже не взглянув на Поту. — Мы с ним ездили сазанов острогой колоть, так думаешь что? Он ни разу не промахнулся. Если он метнул острогу, то можешь вытаскивать нож, соль и готовиться есть талу.
— Это хорошо, — похвалил Кирба.
Идари не знала, как себя вести, она не спускала глаз с мужа, боялась, как бы он одним неосторожным словом не разрушил так ловко построенную хитрость Токто. Она догадывалась, Токто каким-то путем раскрыл их тайну и теперь отгораживал, запутывал их следы. Кирба, приехав на озеро Болонь, расскажет всем о Токто и его ловком родственнике, и никто не догадается, что это был Пота. Но только как Токто удалось раскрыть их тайну, она не могла понять.
Кирба спешил, попрощавшись, он оттолкнул лодку и скрылся за кривуном.
Токто снял с собаки ошейник и пригласил Поту пойти с ним на озеро за утками.
— А вы, женщины, разожгите костер, котлы затаганьте, мы сейчас вернемся, это же как в амбар сходить, — пошутил он.
— Токто, зачем ты врал Кирбе? — спросил Пота, когда они отошли подальше от женщин. — Никакой я не родственник твой, я Чэбену из Нижних Халб. Зачем врал?
Токто подмял траву на широкой кочке и сел.
— Садись, отдохни, — сказал он. — Если ты назвался Чэбену, почему тебя нельзя назвать, например, Гада?
— Я Чэбену.
— Ты Пота из стойбища Няргя, ты украл дочь Баосы Идари и убежал.
— Откуда знаешь?
— Об этом пол-Амура и все озеро Болонь знают.
— Я тоже слышал о них, но ты ошибаешься, я не Пота, и жена моя не Идари.
— Хватит, дорогой друг. Ты мне поправился, как только я услышал о твоем побеге. Люблю я смелых охотников, а ты смелый. Когда я тебя увидел, ты мне еще больше понравился. Правда, я не думал тебя здесь встретить, и никто не думал, что ты убежишь на Харпи. Баоса уже побывал в Болони, все Заксоры, как собаки, рыскают по Амуру, по озеру, вынюхивают твой след. Как ты на Харпи попал никем не замеченный, просто удивляюсь. На озере теперь столько людей, и как ты им на глаза не попался? Если даже сейчас я вернусь на озеро и скажу, что встретил тебя на Харпи, — никто не поверит.
— Я не Пота, ты ошибаешься, — упорствовал Пота.
— Хватит. Если бы я хотел тебя выдать, сказал бы Кирбе, а он передал кому надо. Не выдавай себя за халбинца, там горинцы живут, у них говор другой, чем у нас. Мы ведь тоже не так говорим, как амурские. Вы говорите лаха, мы — сипан, вы — гуси, мы — кикачан. Вот когда я спросил, халбинцы работают или нет на русских, ты ответил «аба, дебоаси» — и сразу выдал себя. Халбинский сказал бы «аба, хаваляси». Ну, теперь будешь упорствовать, что ты Чэбену?
— Да, я Чэбену, ты, Токто, ошибаешься...
— Вот ты ошибся, друг мой Пота. Ты как сквозь густую сетку прошел через столько людей на озере, в Харпи сумел спрятаться от глаз Ичэнги и Кусуна, которые выезжали на озеро, а на пустом месте попался. Знаешь где?
— Я не Пота.
— Хватит. Сказал я — все знаю. Знаешь, где попался? Пота помедлил.
— Где? — наконец спросил он.
— В моем амбаре. Зачем взял мясо, юколу?
— Я не воровал.
— Не надо было брать мясо и юколу, ведь ты острогой мог добыть свежую рыбу и уток. Если взял мясо, то зачем оставил муку и крупу?
— Я не мог по-другому. Я не вор.
Лаха — сом.
Гуси — орел.
— Тебя выдала крупа. Как я увидел эту крупу, так сразу понял, что ты на Харпи. Знаешь почему? Мы всю пушнину сдаем китайцу в Болони, а он, кроме чумизы, гаоляна, ничего не имеет. Пшено можно достать только у русского торговца в Малмыже. Ты мог бы погибнуть из-за мешочка пшена.
Пота растерянно молчал, ему все время казалось, но попадись он на глаза людям — и исчезнет, как провалится сквозь землю, никогда бы он сам не догадался, что оставляет за собой следы, ведь на воде не остается следов. А тут мешочек пшена...
— Понял свою ошибку, «Чэбену»? — улыбнулся Токто.
— Что будешь со мной делать?
— Братом младшим назову!
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Женщинам в большом доме всегда находилось много дел, они не могли присесть отдохнуть, посплетничать, даже Дярикте, которая испытывала нечеловеческие мучения оттого, что не* поругалась с домочадцами или с соседками, приходилось, зажав зубами болтливый язык, мять задубелую лосиную кожу на зимнюю обувь охотникам, детям и женщинам. Майда была загружена работой вдвое больше остальных женщин, и это понятно — она хозяйка дома, на ее плечах держится все хозяйство. Майда привычна ко всякой работе. Пристегнув к поясу свою толстую длинную, почти до пят, косу, она прибирала дома и в амбаре, успевала обработать рыбьи кожи и накормить многочисленных собак. А в последние дни на нее легла обязанность ухаживать за свекровью. Старушка Дубека не подпускала к себе других женщин, кроме Майды. Она тяжело, исступленно кашляла, вся синела, на губах показывалась кровь. Майда подносила берестяную чумашку с золой, и старушка наклонялась над ней. Потом она пила маленькими глотками воду, успокаивалась.
— Грудь... грудь болит, — жаловалась она снохе, — что-то засело, крепко засело... пока оно не выйдет, мне не станет легче.
Эринку — болезнь легких, туберкулез.
Майда давно знала, что старушка болеет долголетней неизлечимой болезнью эринку, и она всегда старалась облегчить ее страдания задушевными словами, тщательно следила за очагом, чтобы не дымил он, и варила дома пищу только для людей, а для собак в любой мороз, ветер, дождь готовила на улице. Она соблюдала все законы, никогда не варила рыбу, которую запрещалось есть таким больным, не подавала и мяса зверей, которые ей не разрешалось есть, в таких случаях она готовила ей отдельную пищу. Дубека всегда и раньше с материнской нежностью относилась к старшей снохе, а после побега Идари, любимицы, она еще больше привязалась к Майде. Разрешала она ухаживать за собой и старшей дочери Агоаке, но та провинилась несколько дней назад: не спросив ни у кого, она сварила пойманную Улуской большую и жирную красноперку и лучшие куски подала матери. Старушка съела один кусочек, запила ушицей, и ей стало плохо. Она по мясу, костям и вываренной коже узнала красноперку.
— Она меня никогда не любила, — жаловалась старушка. — Теперь я обузой стала... решила убить, запрещенную рыбу дает... Я ведь хорошо себя чувствовала, крови стало меньше идти... она виновата. Ненавидит... зачем... скоро уйду...
Майда кивала головой, поила больную горячей водой, и та снова обрела покой. Дубека долго лежала с закрытыми глазами, и когда Майда, решив, что она уснула, поднималась, старушка открывала глаза и тихо просила:
— Сиди, нэку, пусть они работают, женщин в доме много... Хоть бы наши вернулись... Отец наш сердитый человек, когда сердится, солнца яркого но видит. Убьет он дочь... сердцем чую, убьет...
Старушке становилось с каждым днем все хуже, Майда теперь почти не отходила от нее. В амбаре кончились запасы копченого мяса, крупы, муки, единственный мужчина Улуска мало добывал свежей рыбы, и женщины большого дома сидели впроголодь, отдавая все съестное больной и детям.
Утром старушка проснулась раньше уснувшей возле нее Майды.
— Чего это свет всю ночь жжете? — спросила она. — В доме, кажись, еще нет покойника. Может, глядя на наши окна, все родственники тоже жгут свет? Скажи им, я еще не умерла.
Старушка выглядела бодрее, и все женщины облегченно вздохнули. Утром сварили полынный суп из принесенного Гаодагой сазана, и больная впервые за последние дни с удовольствием поела. Потом Дубека усадила возле себя Майду.
Нэку — обращение старших к младшим.
— Нэку, слушай меня внимательно, — начала она, тяжело, со свистом дыша. — Люблю я всех своих детей, всех люблю... гляжу я на тебя и думаю, зачем мы с отцом торопились Полокто поженить, надо было сперва Пиапона на тебе женить... Нет, надо было Полокто на Дярикте женить... так лучше было бы... Ты родилась, чтобы женой Пиапона стать, а мы перепутали...
— Я и так счастлива.
— Муж твой, мой старший сын, к старости будет как отец, злой будет... Ладно, живите, как жили... Рожай побольше детей, догони меня, я родила пятнадцать... всеми живыми я довольна... — Старушка закашлялась и кашляла долго, тяжело, а отдышавшись, продолжала: — Агоака тоже ничего... Сыновья меня все кормили, поили и одевали, они свой долг передо мной сполна выплатили. Говорят, дети, даже сыновья, за всю жизнь не могут с матерью расплатиться... Сколько бы они ни кормили мать, но это будет меньше доли молока ее одной груди... кто знает, может, верно говорят... Но мои сыновья не должны мне... только каждому передай, пусть не трогают сестренку, она не виновата. Пусть убивают Поту, но сестренку чтобы не трогали...
— Да ты сама скажешь, что ты? Они же сегодня-завтра вернутся.
— Может, сама скажу... — Старушка разволновалась, опять раскашлялась, в груди ее хрипело и булькало. Чумашку с золой надо было менять.
Когда Майда вернулась со свежей золой, больная лежала, откинув назад голову, острый кадык ребром выпирал дряблую желтую кожу.
— Отдохну... сиди, — прошептала она.
Майда до полудня просидела возле нее, еще несколько раз выходила из дома и закапывала в песке недалеко от дома чумашки.
— Мне плохо... хоть бы одним глазом взглянуть на младшую дочь, — шептала старушка. — Не забудь, скажи, пусть не трогают дочь... я из буни увижу, если тронут... увижу...
К вечеру со стороны захода солнца накатилась гроза. Небо заволокло черной тяжелой тучей, и в фанзе стало как в зимние сумерки; дети испуганно сжались в комочки и спрятались под одеялами, женщины сгрудились возле очага. Одна Майда сидела возле больной. Внезапно молния ослепила ее, и тут же разорвалось небо над фанзой, оглушив всех. У Майды звенело в ушах, будто водой их заложило, и она ничего не могла услышать, что говорила больная, видела только, как шевелились ее обескровленные губы. Когда вернулся слух, она уловила плач детей, всхлипывание перепуганных женщин.
— Убили... убили дочь мою, — прошептала старуха, откинулась назад и вытянулась. Из правого уголка рта тонкой струйкой потекла кровь.
— Сюда, идите сюда, — позвала Майда, приподнимая голову свекрови. — Подушку выше... не плачь, Агоака, иди за мужчинами, позови соседей, кого-нибудь. Дярикта, подай теплой воды. Исоака, подай свежие саори .
Бледные от страха женщины бегом выполняли приказы старшей.
Майда высоко приподняла голову старухи, но она безжизненно опускалась вправо, помутневшие глаза уже ничего не видели. Майда чувствовала, как немеют ее ноги, тошнота подступает к горлу, но она не отпускала голову свекрови, еще надеялась на что-то, ей казалось, что старуха еще взглянет на нее, закашляет и, может, попросит воды. Прибежавший Гаодага опустил веки умершей и попросил серебряную монету. Майда принесла и, когда Гаодага опустил ее в полуоткрытый рот старушки, поняла — нет уже на свете любившей ее свекрови, ушла она навсегда, отмучилась, родная. Майда опустилась на край нар и заплакала.
Гаодага принес четыре юкольные палки и соорудил на краю нар усыпальню, потом он с помощью женщин перетащил покойницу в усыпальню, положил головой к дверям, прикрыл лицо куском белого коленкора, связал бечевкой ступни и, выполнив все эти обряды, устало опустился возле покойницы. Агоака, всхлипывая, подала ему трубку, и он затих, изредка попыхивая дымом. Зашел Холгитон и с ним несколько мужчин. Все закурили.
— Такого грома я не слышал за всю жизнь, — сказал Холгитон. — Он убил ее.
В фанзе зажгли огонь. В этот вечер во всех фанзах родственников покойницы загорелись жирники, которые будут гореть каждую ночь напролет, покамест ее не похоронят. В соседних и дальних стойбищах, если только вовремя узнают остальные родственники, тоже зажгут жирники, и к ним будут приходить сочувствующие им соседи и в разговорах коротать летние ночи. Беда объединяет род. Так велось и ведется издревле.
Саори — мягкие стружки из черемушника.
Около полуночи залаяли собаки, открылась дверь, и Пиапон с Полокто за руки бережно ввели спотыкающегося, окровавленного Баосу, за ним Калпе с Дяпой — Улуску. Они остановились у дверей, привыкая после темноты к свету, щурились и, увидев покойницу в усыпальне, медленно подошли к ней при общем молчании. Первым не выдержал Полокто: он обнял остывшее тело матери и вдруг безудержно взахлеб зарыдал. Пиапон, Дяпа, Калпе встали на колени возле старшего брата и, не обращая внимания на окружающих женщин, детей, соседей, заплакали, обнимая мать. Баоса, пошатываясь, подошел к изголовью жены, постоял, будто раздумывая о чем-то, и медленно взобрался на нары.
— Когда... это случилось? — спросил он слабым дрожащим голосом.
— Во время сильной грозы, — ответил сидевший рядом Гаодага.
Баоса лег на постель, оставив на подушке пятна крови. Агоака, уложив Улуску, перевязала отцу голову чистой тряпочкой.
— Что с вами случилось? — спросил Холгитон, когда братья отошли от покойницы и закурили поднесенные женами трубки.
...Лодка уже отошла на безопасное расстояние, когда Пиапон вдруг заметил перевернутую оморочку Улуски. Но ему было не 'до Улуски — на корме ничком лежал окровавленный, беспомощный отец, он подскочил к нему, приподнял голову — возле правого виска провинилась косая рана. Баоса открыл глаза, потрогал пальцами рану и застонал.
— Улуска тонет! — закричал Дяпа.
Пиапон заметил недалеко от оморочки черную голову Улуски.
— Гребите! — приказал он, поискал кормовое весло — его не было в лодке. Гребцы сами направили лодку к тонувшему, и, когда Улуска вновь вынырнул, Пиапон ухватил его за косу и втащил в лодку. Улуска был цел, только живот его вздулся от воды, и от страха он потерял сознание.
— Это не простая была гроза, — значительно заявил Гаодага, выслушав рассказ Пиапона. — Надо вам съездить в Хулусэн к большому шаману. Одна гроза была, над вами пронеслась и чуть всех не погубила. Надо съездить к шаману.
— Да, не простая, — поддержали его остальные.
— Я предчувствовал, — заявил Холгитон. — У меня с утра кожу будто тупой иглой кололи...
Ночь просидели без сна. Наутро Майда достала длинную нитку, один конец привязала за верхнюю пуговицу покойницы, на другом конце завязала бусинку, а немного выше, в середине нитки, — каменную сережку. Поставив на нарах возле покойницы еду, она опустила в посуду привязанные бусинку и сережку — свекровь должна есть все, она голодна, но пища теперь может дойти до нее только через бусинку и сережку по нитке. Каждый раз, когда домашние садились есть, Майда ставила перед покойницей берестяные чумашки с едой.
На третий день покойницу вынесли из дому, несли ее мужчины-соседи, их хватали плачущие дети покойницы, вырывали из их рук тело матери и просили оставить им. Большой дом надрывался от мужского плача, женских причитаний, испуганного детского рева. Покойницу положили в грубо сколоченный из досок гроб, прикрывая крышкой, вытащили конец нитки с бусинкой и сережкой. Заколачивали гроб все дети, жены их, внуки и внучки. Баоса тоже заколачивал свой гвоздь.
— Много гвоздей потребовалось, — бормотал белоголовый старик, чтобы слышали и Баоса и молодые охотники. — А совсем недавно мы не хоронили людей, каждый большой дом имел свой кэрэн, там без гроба клали, женщины приходили туда вышивать, огонь поддерживать. Русские бачики запретили по-старому хоронить. В землю; сказали, надо закапывать.
Баоса слушал старца и думал: какая разница, как тебя похоронят, лишь бы убрали кости подальше от зверей и голодных собак.
Гаодага, Холгитон и еще двое мужчин подняли гроб, и опять за него хватались дети покойницы, опять вырывали из рук. Баоса тоже тянул руки: иначе нельзя, если покойницу без сожаления и без остановок пронести на кладбище, то в семье может начаться великий мор, и дети начнут умирать один за другим, в дом придет большая беда.
На могиле разожгли большой костер, и в огонь бросали вещи, которые не могли войти в гроб. Прежде чем бросить в костер какую-нибудь вещь, ее рвали, ломали, потому что целыми они никогда не доходят до буни, а сломанные предметы там покойница найдет целехонькими. Даже ножницы — только одно лезвие положили в гроб — в буни окажутся с двумя лезвиями.
Под плач, причитания детей, племянников гроб бережно опустили в мокрую песчаную могилу, нитку с бусинкой и сережкой вывели наверх. Когда засыпали могилу, в изголовье воткнули тороан — ветку тальника — и на него подвесили бусинку с сережкой, их теперь не тронут даже дети, потому что они тоже твердо уверены, что покойница дышит воздухом через нитку.
Кэрэн — усыпальня-сруб, складывался из бревен.
Баоса сел возле тороана и впервые за эти дни горько заплакал. К нему подошла Майда.
— Я передаю ее последние слова, — сказала она, рыдая. — Она просила не трогать Идари. — Майда повернулась к мужу, к его братьям: — Вас она просила, чтобы вы больше не гонялись за Идари.
Баоса рыдал, опустив голову между колен. Пиапон стоял возле него, и ему казалось, что отец раскаивается за свое буйство, за свою несправедливость к жене — сколько раз он ее избивал без всякой на то причины, сколько раз обвинял в несуществующих грехах. Пиапон всегда жалел мать, может, от этого у него в характере и появилась жалость к женщинам.
Баоса поднялся и поплелся в стойбище, за ним двинулись родственники, соседи, все они один за другим вошли в фанзу, откуда недавно вынесли покойницу: нельзя сразу с кладбища идти в свой дом, следы всех побывавших на похоронах должны вернуться в фанзу усопшей.
Пиапон огляделся кругом, фанза была битком набита людьми, но Пиапону фанза показалась опустевшей, мертвой. Какое малое место занимала сухонькая, молчаливая мать в большом доме, но вот не стало ее, покинула она солнечный мир, и дом осиротел, будто обезлюдел. Пиапон не стал участвовать в выпивке и рано лег спать, ему наутро как можно пораньше надо разжечь костер на могиле матери. Каждый человек в жизни имеет свой костер, мать тоже в дороге из буни обратно в стойбище должна греться у своего костра, но так как она не может сама разжечь огонь, за нее разожжет Пиапон.
Три дня попеременно дети жгли костер на могиле матери, а на четвертый женщины наготовили угощения и пригласили шамана Тунку Бельды. Возле дома Пиапон разжег костер, рядом на столике разложил халат матери. Шаман начал камлание. Пиапон настороженно слушал его, он не особенно верил этому скороспелому молодому шаману и ради проверки его умения решил устроить ему испытание. Тунку Бельды еще полтора года назад со всеми вместе ловил рыбу, ходил на охоту, и никто даже не слышал, чтобы он хотя бы во сне пел шаманские песни. После тяжелой продолжительной болезни он вдруг объявил себя шаманом, начал предсказывать судьбы, узнавать житье-бытье родственников, лечить больных. В стойбище говорили, Тунку на самом деле стал шаманом, пророчили — в будущем станет великим шаманом. Когда одевали мать в последнюю дорогу, ей на грудь положили кусочек стекла, завернутого в разноцветные тряпицы, — по этому предмету и по тряпице шаман и должен узнать покойницу, потому что покойники в буни теряют свое лицо, забывают человеческую речь.
— Вот идет женщина, спотыкается, падает, села, заплакала, — пел шаман. — На груди блестит стекло, красная тряпица, черная, белая...
— Не наша, не наша! — закричала старушка Гоана, жена Гаодаги, с которой Пиапон заворачивал в девять разноцветных тряпиц кусок стекла от разбитой бутылки.
«Белая, красная, синяя, желтая, черпая, зеленая, голубая, потом опять белая, опять синяя», — твердил Пиапон. Шаман снова и снова перечислял тряпицы.
— Это наша, это наша, это она! — наконец удовлетворенно воскликнула старушка Гоана.
«Шаман! Тунку стал настоящий шаман», — подумал Пиапон, глядя, как разволновались слушатели.
После выполнения всех обрядов Баоса почувствовал боль в пояснице и остался дома. Сыновья же с выздоровевшим Улуской отправились на рыбную ловлю и охоту. Он попросил старшего сына Полокто, Ойту, полечить ему поясницу, и мальчик с удовольствием усердно топтал голыми пятками поясницу деда. Но лечение внука не помогло. Баоса вытащил из угла каменного идола — человечка — дюли, стража большого дома.
— Ты плохо стал охранять наш дом, — укоризненно сказал он каменному человечку, — Не мог поберечь свою хозяйку, теперь вот у хозяина поясница отнимается, а ты даже по думаешь, как ему помочь. Заменить тебя некем, ты в старое время хорошо охранял дом, потому мне тебя жалко. Я хочу, чтобы ты сам почувствовал, какая боль гложет мою поясницу, может, тогда поймешь, пожалеешь меня...
Баоса с помощью женщин выволок каменное изваяние из фанзы и по пояс закопал его в песок.
— Будешь здесь стоять днем и ночью, в холод и в жару, в ветер и в дождь, — сказал он. — Чем скорее вылечишь мою поясницу, тем скорее вернешься на свое теплое место.
На улице было жарко, безветренно, горячий песок жег пятки, и Баоса почувствовал, как солнечное тепло проникает в его тело. Он опустился на горячий песок недалеко от закопанного дюли и блаженно растянулся. К нему подошел его помощник — старый беззубый пес Тэкиэн, лизнул шершавым языком руку хозяина и сел возле него. Баоса погладил голову любимца и вздохнул.
— Состарился совсем, Тэкиэн. Кормили хоть тебя? — Пес смотрел на хозяина понимающими глазами. — Сыт, да? Хорошо. Хозяйка твоя ушла от нас, Майда тебя будет кормить. Тебе тоже недолго осталось рядом со мной быть, мы уж никогда вместе не пойдем в тайгу...
Горячий песок приятно грел ноги, даже поясница стала меньше болеть. Баоса закопал ноги в песок. Он давно заметил Гангу, тот вертелся возле своей фанзы, делал вид занятого человека и что-то искал. Ганга несколько раз заходил в большой дом, ночь просидел возле покойницы и провожал ее до могилы. Баоса хотя и сердился на него, но не мог выгнать из дома: в беде все люди объединяются, забывают всякие малые и большие ссоры, к тому же Ганга, если считать по Улуске, в какой-то степени, выходит, родственник, а все же он крепко обидел Баосу, он назвал его собачьим сыном. Ганга наконец неуверенно подошел к Баосе, поздоровался и сел рядом на песок.
— Ноги болят? — осведомился он.
— Болят. Поясница еще больше болит.
Майда вынесла зажженные трубки. Старики закурили.
— Мы с тобой, Баоса, давно соседи, — заговорил Ганга, — между соседями чего не бывает. Ты уж не сердись на меня, горячий я становлюсь, когда меня по-всякому называют.
— Как же тебя не называть было, если твой сын украл мою дочь?
— Ну, украл, но я его не учил воровать чужих дочерей! — Ганга привстал, он опять готов был сцепиться с соседом.
— Ты ругаться пришел или по делу?
Вспыльчивый Баоса на этот раз был сдержанней, хладнокровней, чем Ганга.
— Пришел я к тебе по-хорошему поговорить, а ты меня опять рассердил.
— Ладно, не сердись.
Два старика, как два хорька, сидели друг против друга, пыхтели трубками, плямкая губами.
— Думал я, они на Джалунское озеро сбежали, — заговорил миролюбиво Ганга. — Ездил по озеру, по горным рекам — нигде их следов не нашел. Пота шибко меня рассердил, опозорил нас, мы хоть и бедны, но мы гордые. Нашел бы его, непременно пролилась бы кровь. Следы искал, прислушивался, думал, должен он на еду мясо добыть, должен по зверю стрелять. Ничего не услышал. По озеру, по протокам вышел я в стойбище Чолачи, потом побывал в Джонко — нигде их не видели. Выехал на Амур — там тоже их не видели. Выходит, они не поднялись вверх по Амуру.
— Вниз по Амуру тоже не спустились, мы по всем стойбищам до Падали спускались.
— Может, к озерским нанай подались?
— Озерские тоже не встречали их. Если бы они ехали по озеру Болонь, их бы сразу заметили, там столько глаз, мухой только можно пролететь незамеченным.
— Куда тогда делись?
— Где-то рядом с нами, видимо, время выжидают.
— Может, они в стойбище Хулусэн сбежали?
— Кто их знает.
— Туда не собираешься? — Ганга испытующе посмотрел на Баосу.
— Поясница болит, шевельнуться не могу.
Ганга замолчал, ему очень хотелось знать, будет продолжать Баоса поиск беглецов или нет, ему хотелось услышать, что он думает о завещании жены. Сам Ганга хорохорился только в первые дни, потом он остыл, и если бы действительно ему удалось разыскать Поту с Идари, то, пожалуй, скрыл бы от других их местопребывание. Он на самом деле побывал в Чолани и Джонко и для виду угрожал беглецам всякими карами, возбудил этим любопытство людей, оставил о себе воспоминания чолачинским охотникам и вернулся назад.
— Когда поясница перестанет болеть, поедешь искать? — осторожно спросил он.
— Там видно будет.
— А как завещание покойницы? — уже напрямик спросил Ганга.
И Баоса понял — ему не отвертеться.
— С живой не совещался, чего же мертвую слушать стану? — рассердился он.
«Опять погонится», — с тоской подумал Ганга.
Ганга оказался прав. Через три дня Баоса почувствовал облегчение. Он откопал каменного идола, водворил его на место в угол, пожурил за отсутствие усердия в службе и наказал, чтобы впредь он не пускал в дом злых духов, болезни, оберегал детей и женщин. Вечером, когда все сыновья были в сборе, он объявил:
— Послезавтра поедем в Хулусэн. Полокто, приготовь лодку. Майда, мужчинам приготовь вдоволь мяса и рыбы.
— А как завещание? — заикнулась Майда.
— Не твое дело! С каких времен в большом доме женщины начали лезть в мужские дела? Мы решим сами, без твоей помощи.
— Я не поеду, ама, — подал голос Пиапон.
— Почему?
— Дети голодные останутся, свежей рыбы кто им будет добывать?
— Не умрут с голоду.
— Я не поеду.
Баоса побагровел, уж готовы были слететь с языка проклятья, ругань, но он нечеловеческим усилием сдержал себя. Был бы на месте Пиапона любой другой из его сыновей — несдобровать бы ему, но Пиапона Баоса побаивался. И все же он для острастки других должен был что-то сказать сыну.
— Отец я твой или не отец?! — закричал он. — Я пока хозяин большого дома, когда станешь сам хозяином, тогда самовольничай.
— Не кричи на меня, ама, — спокойно проговорил Пиапон. — Построю себе фанзу и буду хозяином.
— Уходить вздумал?!
— Будешь кричать — уйду. Что меня держит в большом доме? Мать была, ее нет теперь. Ты остался один, а ты будто гонишь меня, нарочно кричишь.
Баоса пришел в замешательство, впервые сын с ним разговаривал, как с капризным своевольным стариком, явно чувствуя свое превосходство. Старик был беспомощен, он понимал, что кончается его власть, что он безнадежно состарился и не может, как в прежние годы, замахнуться на сына и дать крепкую затрещину, он также понимал, что криком уже никого из сыновей не испугаешь.
— Не хочешь ехать — не надо, — зло проговорил он. — За тебя поедет Улуска.
— Разве мне можно? — спросил Улуска. — За братом гоняться, вроде...
— Ты в большом доме живешь или нет?! — закричал Баоса, срывая на Улуске всю злобу. — Пока ты находишься здесь, будешь делать, что я тебе скажу, не забывай — ты вошедший! Не хочешь слушаться меня — можешь открыть дверь и закрыть с той стороны и больше не заходить сюда.
Агоака подтолкнула мужа в бок и прошептала:
— Не спорь, молчи, он выгнать может.
Улуска опустил голову.
В назначенный день Баоса выезжал в Хулусэн. Пиапон, насупившись, провожал отъезжающих. Оттолкнув лодку, он сказал:
— Ама, помни слова матери, никогда ты ее не слушался, когда жива была, послушайся хоть сейчас.
Баоса даже не взглянул на сына. Весла взбурлили, вспенили мутную проточную воду, и лодка рывком устремилась вниз по течению, она словно бежала от острого взгляда Пиапона.
— Вы тоже не забывайте! — крикнул вслед братьям Пиапон. — Грозы остерегайтесь!
Баосу неприятно задело упоминание о страшной грозе, он машинально вскинул руку, провел по шраму на голове. Заметив взгляд сыновей, он сделал озабоченное лицо, стал оглядывать протоку, берега. Справа тянулся высокий берег со священной скалой «Голова», под ней грудились камни, сброшенные во время грозы.
Перед Баосой встало пережитое: грозовое небо, звериный страх, ранение, смерть жены. Он почувствовал, что у него появился могучий враг. Но кто он такой? Злой сэвэн или шаман? За что он невзлюбил Баосу и его семью? Как можно жить в вечном страхе?
Лодка между островами выплыла на Амур. Густые тальники смотрели в его зеркальную воду и любовались своими зелеными кудрями. Перед Баосой стеклом блестел Амур, противоположный берег тянулся зеленой ниткой между зеркалом воды и голубизной неба. Река отвлекала Баосу от тягостных мыслей, и он стал любоваться ею.
— Ама, русская железная лодка снизу плывет, — сказал Полокто.
Баоса оглянулся: длиннотрубный пароход, отчаянно дымя и шлепая плицами, поднимался по реке. Баоса недолюбливал и боялся пароходов: каждый незнакомый предмет всегда пугал его. Первой мыслью было спрятаться в тальники и переждать, когда пароход минет их. Но сейчас он не мог терять время, он спешил, ему сегодня же надо быть в Хулусэне.
— Русская лодка будет плыть около этого берега, а мы переплывем на другую сторону Амура, — сказал он, немного подумав. — Гребите, не жалейте сил, на том берегу отдохнете.
Баосе можно было не говорить этих слов, дети его и Улуска сами знали, что не надо жалеть сил, когда переплываешь Амур. Каждый нанай любит свой Амур: река кормит его, одевает, по в душе каждый боится его скверного характера. Сколько рыбаков он забрал к себе! Они тоже переплывали через его широкую грудь, но внезапно поднимался ветер, волны начинали играючи перебрасывать лодку с одной своей хребтины на другую, а когда надоедала игра, они заглатывали ее со всеми людьми в свою пучину.
— Гребите! Гребите! А то наскочит на нас русская лодка! — кричал Баоса точно так, как кричал во время гонок с русскими.
Когда переплыли Амур, Баоса пристал к песчаному берегу и разрешил всем отдохнуть.
— Хорошо гребли, если бы плыли наперегонки, эту русскую железную лодку, пожалуй, обогнали бы, — похвалил он.
Полокто снял с себя мокрый верхний халат, потом нижний и, отдышавшись, заявил, глядя на корму удалявшегося парохода:
— Железный, железный, а кто его видел близко? Похвалился какой-нибудь русский хвастун, что они умеют железные лодки делать, и поверили все, как дети. Как железо может плавать на воде? Вот мой нож, железа тут мало, рукоятка из корня клена. Вот смотрите, видите — тонет. Железный нож с деревянной рукояткой тонет, а вы поверили, что железная лодка плавает.
— Холгитон взбирался на русскую лодку, говорит, она из железа, — ответил за всех Калпе.
— Холгитон твой брехун, он дня не проживет, чтобы что-то не соврать. Русские даже деревянную лодку и то сами не делают, нас просят...
— Одни умеют, другие не умеют, — не сдавался Калпе.
— Колеса лодки, видать, железные, — вставил слово Улуска.
— Конечно, железные, — поддержал Улуску Дяпа.
— Это я и сам знаю, я говорю о днище, бортах и пристройках, — проворчал Полокто.
— Интересно, какая сила двигает такую громадную лодку, — задумчиво проговорил Калпе. — Может, какой большой шаман внутри сидит?
— Догони и посмотри, — усмехнулся Полокто.
Калпе даже не обернулся к старшему брату, он смотрел вслед исчезавшему за тальниковыми островами пароходу и клялся, что когда-нибудь осмелится и заглянет в нутро русской железной лодки.
«Как, должно быть, интересно, — думал юноша. — Каким надо быть умным человеком, чтобы сделать такую громадину, да еще чтобы двигалась без весел. Только умные люди способны на такое...»
Все выкурили по трубке, отдохнули и поехали дальше. После полудня няргинцы подъехали к стойбищу Хулусэн. Баоса любил бывать в Хулусэне, и, как только выдавалось свободное время летом, он всегда приезжал сюда. А любил он его не за красивое незатопляемое место, не за тихую, рыбную протоку, не потому, что стойбище было многолюднее Нярги, не потому, что здесь жили многие его родственники и находилась родовая святыня — Хулусэнский священный жбан. Причина лежала в другом — Баоса здесь встречался и знакомился с охотниками из отдаленных стойбищ и пил водку по нескольку дней подряд в их компании, не видя солнца, как выражались женщины.
Хулусэн и его священный жбан известны были всем нанай Амура, Уссури, Сунгари, и люди приезжали сюда издалека помолиться эндури, попросить счастья в жизни, удачи на охоте, зачатия бесплодной жене, излечения от болезни. Бывали дни, когда в Хулусэн приставали одновременно три-пять лодок, все они привозили водку, продукты, жертвенных свиней, петухов. Случалось, что приходилось устанавливать очередь к жбану счастья: один день молилась одна семья и устраивала угощения, на следующий день — другая, потом третья. Некоторые состоятельные охотники привозили столько водки, что угощали хулусэнцев подряд два-три дня. Эти моления прекращались ко времени подхода кеты, когда надо было заготовлять юколу, корм собакам. Но как только проходила кетовая путина, начиналось родовое моление Заксоров. Священный жбан — родовое божество, и поэтому все Заксоры имели право на него. Сперва в самом Хулусэне они носили жбан с большим сэвэном, ростом с подростка, с одного края стойбища в другой, потом кто-нибудь из уважаемых Заксоров под свою ответственность перевозил его в родное стойбище. Баоса сам несколько раз забирал божество в Нярги и разрешал помолиться соседям из других родов. «Священный жбан имеет такую силу, что этой силы хватит и другим родам и всему нанайскому народу на все годы», — рассуждали Заксоры, но другим родам вывозить жбан из Хулусэна все же не разрешали.
Пять лет назад в Хулусэне объявился великий шаман Богдано Заксор. Баоса с молодых лет замечал в Богдано его незаурядность, он и тогда предполагал, что его сверстник будет или великим шаманом, или дянгианом — судьей рода. Богдано был необычайно красноречив. Он знал столько сказок и легенд, что мог рассказывать их месяцами, и им не было конца, как водам Амура. Когда сказка захватывала слушателей, он продолжал ее пением, голос у него был приятный, громкий, он мог петь и женским мягким певучим голосом и мужским грубым, высоким, мог говорить по-птичьи, по-звериному и мог неподражаемо повторять таежные, речные звуки. Позже он стал ворожить, предсказывать судьбы людей, потом начал лечить больных — тогда-то все и поняли, что Богдано стал шаманом. Сам он, однако, еще долго не объявлял себя шаманом. В средних шаманах он ходил лет десять, не кичился перед односельчанами, не отказывал никому в помощи. Но однажды он уговорил двух молодых охотников и выехал с ними вверх по Амуру. Сперва он заехал в Нярги и остановился у Баосы. Весь вечер Богдано молчал, и все окружающие заметили его беспокойство, нервозность. Баоса пытался было разговориться с ним, расспрашивал о его жизни, рыбалке, но Богдано отвечал неохотно и больше отмалчивался. На следующий день он выезжал дальше и пригласил Баосу поехать с ним, но Баоса отказался, у него много было своих дел. Позже он долго не мог простить себе, что не поехал с Богдано, не стал свидетелем становления среднего шамана великим.
Богдано, как он узнал позже, во сне увидел свое превращение, сшил тайком большую шаманскую шапку с рогами, кафтан, спрятал это одеяние в берестяную коробку и отправился по Амуру до последнего стойбища, где живут люди из рода Заксоров. Поднимался он до большого стойбища Толгон, где на одном берегу протоки жили Заксоры, а на другом — люди других родов. Там он впервые надел одежду великого шамана и с камланием прошел от нижнего крайнего дома до верхнего. Хозяев фанз он приглашал в свое стойбище на великое камлание. Многие охотники тут же собрались — долго ли людям, всегда находившимся в дороге, собраться — и выехали с ним вместе. Богдано возвращался в Хулусэн в одежде великого шамана, заезжал по дорого во все стойбища, которые посещал, поднимаясь вверх, и звал хозяев к себе. Гостей набиралось все больше и больше. Баоса не поверил своим глазам, когда увидел Богдано в одежде великого шамана, но сопровождавшая его толпа людей смела все его сомнения. Богдано, не ответив на приветствие Баосы начал обход стойбища. Баосу бросило в дрожь, и он успокоился только тогда, когда шаман все же зашел в его дом и пригласил в Хулусэн.
Возвращения великого шамана в Хулусэне ждали все жители, ждали откормленные девять черных свиней, предназначенных для жертвоприношений могущественным сэвэнам. Два дня шаман готовился к камланию, на третий день после захода солнца все хулусэнцы и многочисленные гости собрались возле дома Богдано.
Великий шаман вышел в своей новой одежде, сел возле почтенных старцев, задымил трубкой. Подогрели бубен на костре, и начались танцы с бубном. Много людей танцевало в тот вечер. Баоса даже не мог сказать, сколько их было. Запомнились ему изящные, полные охотничьего достоинства, иногда с нарочито подпускаемым юмором танцы одного толгонца и Полокто. Когда все желающие оттанцевались, Богдано надел шапку с двумя рогами, прицепил побрякушки и начал петь медленно и заунывно. Баоса, как ни прислушивался к его пению, не мог разобрать слов. Шаман пел все громче и громче, потом вскочил на ноги и начал плясать шаманский танец, он рассказывал, как во сне к нему явились могущественные сэвэны и приказали ему стать великим шаманом.
— Сами знаете... отказываться нельзя, — пел Богдано. И Баоса верил, что Богдано действительно нельзя было отказаться, иначе его замучили бы могущественные сэвэны и умертвили.
— Согласиться-то я согласился... но силы своей не чувствую, смогу ли я быть великим шаманом или нет — но знаю...
— Будешь! — воскликнул Баоса.
Долго пел и плясал шаман. Когда он кончил камлание, хозяин Хулусэнского жбана, самый старый из Заксоров — Турулэн встал на колени перед молодым по сравнению с ним Богдано и преподнес ему чашечку водки.
— Будь нашим шаманом. Из нашего рода вышел первый шаман среди нанай, у нас много великих шаманов, и ты будь великим шаманом, — сказал Турулэн.
— Будь! — повторил Баоса со всеми вместе и подумал: «Верно говорит старейший, в легендах говорится — Заксоры были первыми шаманами».
Богдано побрызгал водкой в четыре стороны, угощая своих сэвэнов, и выпил остаток. Потом он опять пел и танцевал до тех пор, пока «Половина шкуры» не повернулась ногами к заходу солнца.
Утром шаман продолжал камлание и объявил о своем решении стать великим шаманом. Баоса не дослушал Богдано, ушел к священному дереву тороан, где он на рассвете с девятью молодыми охотниками приготовил к жертве девять черных свиней. Богдано явился вслед за ним с толпой сопровождающих. Баоса наклонился над связанной свиньей, приставил нож к горлу и по знаку шамана воткнул нож в податливую шею животного. Теплая пенистая кровь хлынула в берестяную чумашку. Баоса подал ее шаману, чтобы он ее выпил. Баоса боялся взглянуть на Богдано — так был страшен шаман. Он скакал, прыгал, неистовствовал. Баоса, глядя на этот танец, уже не сомневался, что у Заксоров появился великий шаман. Богдано вдруг захрипел и упал на песок. Его подняли и повели в стойбище. Баоса с помощниками перенесли в стойбище туши свиней, разделали и сварили их в нескольких больших котлах.
Когда Баоса зашел в фанзу молодого шамана, тот сидел на краю нар в окружении старцев бледный и изможденный. Баоса присел возле него, закурил поданную женщинами трубку, но страх, овладевший им во время жертвоприношения, не проходил.
Только выпив с десяток чарочек водки, Баоса почувствовал себя свободнее. Этому помогло и то, что Богдано был теперь в обычной одежде.
Пять дней великий шаман угощал своих гостей, пять дней Баоса только с утра видел желтый диск солнца, а все остальное время перед его глазами стояла пьяная муть.
А сейчас Баоса вынужден был к нему обращаться за помощью. Дети думают, что он ищет здесь Поту и Идари, — пусть думают. Баоса оглядывал берег стойбища, он знал все хулусэнские лодки, оморочки — чужих среди них не было, значит, нет гостей в Хулусэне.
«Это даже к лучшему, — подумал Баоса, — одни будем решать свои родовые дела».
— Что-то людей не видать, — сказал Полокто, оглядывая берег.
— А вот кто-то идет, — указал Калпе.
Когда лодка пристала, к ней подошел, пошатываясь, Пассар Ливэкэн.
— А-а, Баоса, приехал наконец. Сколько тебя не было в нашем Хулусэне, — заговорил он. — Сыновья твои приехали, здравствуйте, здравствуйте, молодые охотники. Баоса, как давно я тебя не видел — продолжал он, обнимая Баосу, когда тот сошел на берег.
— С прошлой осени, с прошлой осени, — улыбался в ответ Баоса.
— Вот, вот, с осени не виделись. Чего ты не заезжаешь, вход в нашу протоку не можешь найти? Ладно, я когда-нибудь там большое воронье гнездо совью на верхушке тальника, чтобы не проехал мимо...
Продолжая бормотать, Ливэкэн помог вытащить лодку на берег.
— Не приезжал, не приезжал, — и в самое время приехал. Сегодня шаман камлать будет.
— Кто заболел?
— Не-ет, сэвэны его не стали слушаться, завтра задабривать их будет. Ох, Баоса, вовремя ты приехал, завтра шаман сэвэнов будет угощать, и нам кое-что перепадет.
«И правда хорошо, вовремя приехал, — подумал Баоса, — не надо и камлание устраивать, так все узнаю».
— Попьем, Баоса! — продолжал Ливэкэн.
— Ты уж и так выпил, — усмехнулся Баоса. — Теперь тебе часто приходится выпивать.
Баоса посмотрел в пьяные глаза Ливэкэна — нет, не понял намека. А Баоса намекал на двух дочерей Ливэкэна, которые по три, четыре раза выходили замуж и каждый раз возвращались к отцу, сохраняя за собой и свое приданое и тори мужей. Девицы были умные, они не хотели жить в неволе у мужей, им больше нравилась фанза отца в Хулусэне, куда так много приезжает молодых охотником. Для развода они шли на всякие ухищрения, терпели побои и все выжидали момента, чтобы вовремя уйти от разозлившихся мужей. Судьи, разбиравшие развод, всегда становились на их стороне и не возвращали мужьям тори, потому что на них, как правило, ложилась вся вина.
Так Ливэкэн, ничем не примечательный средний охотник, жил в достатке за счет своих умных дочерей. Как только какая-нибудь из них убегала от мужа, тут же приезжали новые сваты, и начиналось все сначала.
— Часто пью, часто пью. А чего не пить? Не бедно живу, — хвастался Ливэкэн. — Остановитесь у меня, найду что выпить.
— Нет, у меня свои родственники, обижаться будут.
К прибывшим приближались родственники Баосы — Турулэн, сын его Яода, зятья Гида и Тэйчи. Турулэну никак не дашь семидесяти лет, он шагал легко и быстро, высоко вскидывая ноги. Подошел, обнял Баосу, потом поцеловал в щеки Полокто, Дяпу, Калпе, Улуску.
— Слышал, слышал о вашем горе, — сказал Турулэн, — сорока на хвосте известие принесла. Разыскали их?
— Нет. По этому делу приехали, — ответил Баоса.
— Да, да, я тоже слышал, дочка твоя сбежала с молодым охотником, — вновь заверещал Ливэкэн. — А-я-я, как так, а? Как молодые изменяются, не слушаются нас. Убежала из дома отца!..
— А жену твою убило, — продолжал Турулэн, не слушая Ливэкэна, — всех хотело убить, знаю это. Где Пиапон?
— Дома остался, — угрюмо ответил Баоса, думая над вещими, как ему самому показалось вдруг, словами Ливэкэна о молодежи.
Турулэн повел гостей в фанзу. Последними, приотстав от других, шли Полокто и пошатывавшийся Ливэкэн.
— Заходи, заходи хоть ты, — попросил Ливэкэн, — пусть отец с Турулэном пьет, а ты зайди ко мне.
— Гэйе дома? — спросил Полокто о старшей дочери Ливэкэна.
— Куда денется? Гэйе дома, Улэкэн дома, обе дома. Улэкэн опять ушла от последнего мужа.
Баоса вошел вслед за хозяином и прежде всего бросил взгляд в дальний угол фанзы — священный жбан и сэвэн стояли на своем месте. Баоса подошел к жбану и, встав на колени, отбил поклоны. Полокто, Дяпа, Калпе, Улуска опустились на колени сзади него.
Глиняный обыкновенный жбан, в каком многие семьи хранят воду, некогда высокий, с горловиной, был перепилен посередине, густо обмазан глиной и перевязан толстой веревкой. Возле него, как страж, стоял двуликий сэвэн, высокий по сравнению с перепиленным жбаном, с большими грудями, с толстыми ногами. На шее сэвэна несколькими рядками висели бусы, каждая бусинка представляла железную скульптурку человечка, собачки, тигра, медведя, волка, рыси.
Перед жбаном и двуликим сэвэном стоял низенький столик, на который клали жертвоприношения.
Гости поели, отдохнули с дороги и после захода солнца пошли к шаману. Полокто встретил свою возлюбленную Гэйе и, не дождавшись конца камлания, тайком убежал с ней.
Лучшего места, чем берег реки, сухое днище лодки, не найти в стойбище влюбленным: на берег ночью никто не выйдет, женщины запаслись водой, рыбаки после камлания в ожидании утреннего угощения шамана даже и не вздумают выехать на лов рыбы — никто не потревожит влюбленных. Полокто обнял давнюю подругу, прижал к себе, теплой Щекой прильнул к ее горячему лицу.
— Ты меня ждала? — спросил он, заглядывая ей в глаза.
— Из-за тебя только я каждый раз убегаю от новых мужей, — нежным певучим голосом ответила Гэйе.
Полокто счастливо засмеялся. Он не верил Гэйе, но ему почему-то нравился ее обман, нравилось и ее непостоянство.
«Пусть потешается, мне-то что, — думал он, — стала бы женой, тогда держал бы в кулаке, тогда она не посмела бы даже взглянуть на молодых охотников».
Полокто считал себя знатоком женщин. Сколько их встречалось ему, и только в одной Гэйе он нашел неистощимую страсть. Поэтому его всегда тянуло к ней, он готов был простить даже ее непостоянство.
— Хороший человек был последний муж?
— Аих! Разве сравнить с тобой? Трухлявое дерево. Ревновал и бил, жестоко бил, негодяй.
— Не приезжали новые сваты?
— Приезжали с верховьев, не с тех мест, где говорят «камаа», а еще выше. Ну, как их? Не нанай, а другие...
— Акани?
— Вот, эти акани говорят будто по-нанайски, а не разберешь многих слов. Много водки привозили, богатые, видно, Хотели сразу увезти, да я отказалась.
— Как только отец с вами соглашается, никак не пойму. Захотел бы он отдать — и отдал бы, — улыбаясь, сказал Полокто.
— Не отдаст, он нас слушается. Мы ему шепнем слово «согласны» — он отдаст, шепнем «нет» — он отказывается или заламывает такое тори, что сваты, не оглядываясь, бегут.
Полокто засмеялся, обнял подругу и опять прижался к ней щекой.
— А ты по-прежнему молодой, — счастливо смеялась Гэйе. — Может, с женой не спишь?
Полокто но ответил.
— Интересно, какой был бы этот мой новый муж. Он очень умолял отца, в наколенниках дырки, наверно, прошаркал. Бедный! Говорит, в их местах женщин не найти, с десяти лет девочки женами становятся.
— Будто у нас на Амуре лучше. Я давно засватал жен всем своим сыновьям, иначе они без жен останутся. У нас тоже женщин не хватает, только ты с сестрой постоянные невесты.
Камаа — междометие найхинского говора нанай.
Акани — так называли сунгарийских и уссурийских сородичей.
— У нас невесты есть, не ври, в каждом стойбище есть невесты, вдовушки есть, а он говорил, что у них китайские торговцы всех женщин закупают, а молодые нанай не находят женского тепла.
— Вижу, ты жалеешь, что не вышла за своего акани.
— Эх, ты! Говорю тебе, из-за тебя не вышла, далеко от тебя, понял?
— Созналась бы лучше — далеко возвращаться в Хулусэн, когда поссоришься с ним.
Гэйе удивленно взглянула на Полокто.
— Ты никогда не любил меня, — капризно заговорила она, — я тебе нужна тогда, когда тебе хочется женского тела...
— На это у меня своя жена есть, а тебя я люблю. Отец виноват, что я не женился на тебе. Вот жизнь какая — и мужчина и слушаюсь отца. Сказал он, женись на Майде, я женился, оставил тебя. А ты женщина, но почему-то отец твой тебя слушается...
— Потому, что я настойчивая.
— А я что, осенний лист, куда ветер подует — туда я? Тут не в настойчивости дело, тут что-то другое. У нас отец хозяин большого дома, он главный, а у вас...
— У нас тоже отец хозяин дома.
— Перестань, поговорим о нас двоих. Скажи, Гэйе, ты стала бы моей женой?
— Ты сам знаешь, чего спрашиваешь?
— Бросила бы свою привычку дразнить молодых людей?
— Если бы я жила с тобой, зачем мне молодые люди? Но зачем ты все спрашиваешь? Ты же не женишься на мне.
— Женюсь.
— Отец не разрешит.
— А я женюсь.
— У вас большой дом, другие братья на совете мужчин воспротивятся, у вас Калпе еще не прикасался к женщине, ему надо хоть какую-нибудь...
— Ты никогда не можешь, чтобы не ругаться, и за это я тебя тоже люблю. Я женюсь на тебе, ты только жди, не выходи ни за кого замуж.
— Когда?
— Будущим летом.
— Ох, как долго! Как же мне так долго жить, ты же но разрешаешь с молодыми ходить. Может, сам чаще будешь приезжать?
— Буду. Как смогу, буду приезжать. Смотри, с сегодняшнего вечера ты моя жена, все свои привычки брось. Если услышу от людей — плохо будет...
Полокто пришел домой позже братьев, лег и задумался. Гэйе, красивая, белолицая Гэйе, она должна стать его женой. Обязательно должна. Пока ездил Полокто в поисках беглецов по стойбищам, он видел многих счастливых мужчин, обладателей двух женщин. Неужели Полокто хуже их, неужели он не сможет купить себе вторую жену? Надоело ему тайком встречаться с любимой Гэйе. Полокто теперь взрослый человек, он может самостоятельно жить в отдельной фанзе, иметь свои амбары, упряжку собак. Если совет мужчин большого дома будет противиться его второй женитьбе, то Полокто выселится из большого дома. Ничего в этом пет особенного, во всех стойбищах теперь есть такие отделившиеся семьи. Приняв твердое решение, Полокто мгновенно уснул, как засыпает набегавшийся по тайге усталый охотник. Утром он проснулся, со всеми вместе позавтракал и пошел на утреннее камлание. Отец шагал рядом с ним с непроницаемым суровым лицом. Он искоса поглядывал на сыновей, на Улуску, односложно отвечал Турулэну.
«Мысли мои узнал», — испуганно подумал Полокто, замедлил шаг и отстал от отца.
Пришли к фанзе великого шамана. Баоса и Турулэн поздоровались с Богдано, сели рядом. Началось камлание. Богдано задабривал своих сэвэнов и просил, чтобы они ему помогли. В жертву он приносил на этот раз трех свиной. Богдано пил кровь, пел и плясал танец великого шамана, и, когда стал завывать и прыгать, к нему стали подбегать больные и выспрашивать секреты излечения. Баоса тоже подбежал и выкрикнул:
— Кто на меня злится?! Кому я сделал плохое? Меня кто-то преследует, помоги!
Богдано отвернулся от него, сделал несколько прыжков, и когда вновь приблизился, Баоса увидел не глаза — два ярко горевших угля.
— Зачем ко мне обращаешься? Тебе уже помог другой шаман! — взревел Богдано и заплясал, отчаянно колотя в бубен, оглушая Баосу грохотом и звоном побрякушек за спиной. — Враг есть, бойся... Дочь твоя — женщина, не косуля...
«Враг есть... мне надо его бояться, — Баоса, обессиленный, тяжело опустился на свое место. — Бояться надо... За что, кто меня возненавидел?»
Только через некоторое время он вспомнил другие слова, сказанные великим шаманом: «Дочь твоя — женщина, не косуля...» Что это значит? Дочь не косуля... За косулей гоняются охотники... Дочь — женщина... Выходит, мне запрещается ее разыскивать?..»
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Солнце сидело на седловине сопки на восточном склоне небосвода, когда из Малмыжа выехал трехвесельный средний неводник. На середине лодки на широких досках сидели малмыжский поп и приезжий урядник из Тамбовского.
— Я небольшой чин в уезде, но меня направили к этим гольдам, доверили, так сказать, я подчиняюсь, — говорил урядник, продолжая начатый в Малмыже разговор. — Мне приказано проехать по всем стойбищам, поглядеть, как живут, много ли вымирает, какие происшествия были, — начальство все хочет знать. Приказано ездить с духовным лицом, так что я, батюшка, не виноват, не по своей воле побеспокоил. Я тут бывал раз, когда переписывали их, так сказать, сопровождал должностных.
Поп, ссутулившись, сидел напротив него и безучастно смотрел по сторонам, демонстрируя свое безразличие к этой инспекторской поездке малого полицейского чина.
— Докладывать я должен, как христианская вера доходит, так сказать, до сознания гольдов, могут они учиться или не надо их грамоте обучать. А то ездят тут всякие ученые люди и только неразбериху вводят.
— Суету ненужную приносят, — пробасил поп. — Зачем туземцам грамота спонадобилась? И христианами не станут истинными. Была бы моя власть, да мешать бы не стали, я бы их мигом оборотил в нашу веру.
— Можно узнать мнение ваше, как? — полюбопытствовал урядник.
— Надо их в узде держать, стреноженными. Первые миссионеры изничтожили их нечистую веру, сожгли их идолов, окрестили всех, да и оставили в покое. Божье слово не дошло до них, они вернулись к своей вере...
— Гольды ведь все крещены.
— Крещены, да что от этого? Креститься даже не умеют, ни «Отче наш», ни «Богородицу» не знают. Слыхал? Был такой отец Протодьяконов, по ихнему говорил, даже словарик составил, написал на их языке «Отче наш». А что получилось? Ничего! Пустое дело, как были дикими людьми, такими и остались.
Урядник слушал, склонив голову набок. Поп высказывал мысли, совпадавшие с теми высказываниями, которые он не однажды слышал от некоторых жандармских чинов, лощеных чиновников. Он выпрямился, уставился глазами бутылочного цвета вдаль, подправил усы и важно сказал:
— Есть, батюшка, мысли поновее...
Священник бросил на него презрительный взгляд, и злая усмешка скривила рот.
— Мысли, знаем мы ваши мысли! Гольдяков хотите выгнать в тайгу густую? Знаем. Об этом и мы не раз думали!
«Неужели это священник? — удивился урядник. — Ему бы в полиции служить, добрый вышел бы служака. Ну и поп! И говорит не по-церковному».
Уряднику больше не хотелось разговаривать, и не потому, что он боялся разгласить тайну, просто он получил приказ проехаться по стойбищам, посмотреть на жизнь гольдов, порасспросить старост о нуждах, о чрезвычайных происшествиях, которые произошли за последние годы, — задание было совсем пустяковое. Краем уха он слышал, что за ним проедут по этим же стойбищам ученые-этнографы, изучающие быт и культуру гольдов, хотя никто не знал, когда они приедут. Может, через год, может, через три года. И когда урядник глубокомысленно намекнул священнику о новых взглядах в отношении гольдов, он имел в виду этих ученых-этнографов из Петербурга, из Америки.
«Если уж из Петербурга да из Америки приезжают к этим гольдам, видимо, они еще нужны», — думал урядник.
Приезд попа и урядника в Нярги первыми заметили вездесущие ребятишки. Они мигом разбежались по домам. Старший сын Полокто, Ойта, вбегая в фанзу, закричал:
— Бачика едет! Бачика едет!
Пиапон после ночной рыбалки сладко похрапывал, но при первых же словах Ойты соскочил с нар, протер глаза, торопливо накинул халат и, прихватив из угла каменного дюли, побежал прятать его в кусты за амбаром. Там же он спрятал всех сэвэнов — деревянные и соломенные изображения драконов, собак, человечков. Женщины укутали в тряпки пане — скульптурку души умершей хозяйки большого дома — и спрятали за свернутыми постелями, одеялами и подушками. Ойта тем временем обежал соседей, предупредил Гангу, Холгитона, Гаодагу. Пиапон стоял возле амбара, наблюдал, как те суетились в фанзе, спорили с домашними, где лучше спрятать сэвэнов. Ганга ничего лучше не мог придумать и закопал в сыпучий песок двух почерневших от копоти драконов, а двух маленьких собачек засунул в траву, покрывавшую фанзу.
Холгитону нельзя было мешкать, он староста стойбища и должен на берегу встречать важных гостей. Жена его Супчуки в подоле халата унесла в дальние кусты двух полосатых идолов. Холгитон успел только прицепить большую медную бляху старшины, символизирующую его власть, и побежал на берег, за ним семенил Ганга, сопровождаемый облезлыми худыми собаками.
— Ну вот, Холгитон, ты опять старшинка, ты опять дянгиан-начальник, — насмешливо говорил Ганга. — Почаще приезжали бы русские начальники, и люди бы помнили, что ты старшина. Скажи им, пусть хотя бы через каждые три дня приезжают. — Ганга подтрунивал над соседом.
— Замолчи! — прикрикнул Холгитон. — Я гадаю, зачем приехал этот, с шашкой, что у нас ему надо? Может, что про беглецов узнали, может, Баоса разыскал Поту и убил его?
— Ты что, ты что?! — оторопел Ганга и остановился.
К нему подошел Пиапон.
— Холгитон опять почувствовал себя старшинкой, — усмехнулся Пиапон. — Наверное, скоро прикажет: «Отвезите русского начальника в такое-то стойбище».
— Не шути, Пиапон, Холгитон думает, не убил ли твой отец Поту, — прошептал побледневший Ганга. Пиапон тоже побледнел. — С шашкой приехал, он зря не ездит...
— Не может этого быть! Слышь, Ганга, этого не может быть!
— Чего не может быть? Отец твой злой человек, если разыскал Поту, он убил его. — Ганга повернулся и, волоча ноги, побрел в фанзу.
Пиапон догнал его.
— Обожди, стой, нельзя выдавать русским, что мы встревожены, может, они ничего не знают, может, русский так приехал, ведь всякое бывает. — Пиапон сам взволновался и говорил быстро, как никогда в жизни. Успокаивая Гангу, он пытался сам успокоиться, но погоны и шашка полицейского вселяли в него страх.
— Подожди здесь, вон они подходят, будут что спрашивать, отвечай спокойно. Сейчас все узнаем, — говорил он, еле ухватывая смысл произносимых слов.
Урядник важно, начальственно шагал впереди, за ним, вобрав голову в плечи, точно ожидая удара, шел Холгитон. Поп, подобрав полы рясы, лениво, будто кем-то понуждаемый, брел позади всех.
— Так ты, значит, так сказать, староста, — продолжал разговор урядник, явно подражая своему начальству. — Скажи-ка, староста, сколько людей в стойбище?
Холгитон имел совсем растерянный вид, он попытался сосчитать в уме жильцов каждой фанзы, начиная с крайней нижней, но уже на третьей фанзе споткнулся, а в четвертой окончательно запутался. Урядник выжидательно молчал. Холгитон вновь начал считать, загибая пальцы. Когда не хватило пальцев, чтобы не запутаться, он остановился и начал чертить палочки на песке.
— Видел, урядник, к чему таких людей крестить и к культуре приучать? — сказал поп. — Он здесь самый толковый, потому его старостой и поставили, и этот человек не может сосчитать до пятидесяти...
Холгитон услышал, что поп оскорбительно отзывается по его адресу. Староста поднял голову, встретился с холодными, полными презрения глазами попа и весь вспыхнул.
— Так сколько людей в стойбище? — повторил урядник.
— Три года назад твоя все люди писал, — зло ответил Холгитон. — Бумага есть, чего спрашивай?
— Видели, огрызается, — сказал поп.
Холгитон встречался с попом в Малмыже, в первые дни он каждый раз кланялся ему при встрече, как учил прежний священник, который по каким-то причинам уехал прошлым летом, но поп не отвечал на приветствие, будто даже не замечал его, и проходил мимо. Это задело Холгитона, и он невзлюбил нового священника. Теперь они второй раз столкнулись.
— Не я перепись делал. Я, так сказать, сопровождал чиновников, которые переписывали вас, — попытался разъяснить урядник.
— Зачем толкуешь, урядник, он не поймет.
Холгитон вконец разозлился, но понимал и свое положение. Если он оскорбит попа словом или действием, то ему несдобровать, но злость кипела внутри и требовала какого-то выхода. Холгитон отвернулся от попа и урядника и закричал по-нанайски Ганге и Пиапону, оказавшимся недалеко от него:
— Ты — собачий сын! Понимаешь? Ты выродок, твоя мать была сукой! Как только тебя земля держит, сукиного сына? Эй, ветры, эй, грозы, будет этот выродок возвращаться домой, утопите его в протоке!..
Ганга с Пиапоном с недоумением смотрели на Холгитона, переминались с ноги на ногу и не знали, что им предпринять.
— Ты кому кричишь? — спросил Ганга, бледнея еще больше.
— Не видишь, что ли, этот ворон черный стоит сзади меня. Это не человек, это... — И Холгитон вновь принялся поносить попа самыми крепкими выражениями. Облегчив душу, он обернулся к уряднику.
— Команда я давал, — сказал он, делая виноватый вид. — Наша стойбища сорок девять человек, — назвал он первую пришедшую на ум цифру.
— Так, сорок девять человек. Скажи, староста, за три года, после, так сказать, переписи, население прибавилось или уменьшилось?
— Старики умирай, маленькие дети умирай.
— Сколько человек умерло? Холгитон начал припоминать.
— Как мухи мрут, лет через пятьдесят их на земле не останется ни одного человека, — сказал поп.
Холгитон отвернулся и опять длинно и грязно обругал попа.
— Какие приказы отдаешь, староста?
— Девятнадцать человек умирай, маленький и старый и большой. Сколько собак умирай, тоже говори надо?
— Собак? Зачем собак? — удивился урядник.
— Видели, насмехается, ирод.
«Да, священник этот не на месте, — подумал урядник. — Он за что-то невзлюбил гольдов. За что, интересно? Надо волостному доложить, если долго будет здесь оставаться, вред может нанести делу».
— Ну, хорошо, я сейчас закончу, вы подождите в лодке.
— Урядник, не заходите в фанзы, блох и вшей наберетесь.
— Хорошо, хорошо.
Поп медленно побрел к берегу, приподнятый подол рясы взмахивал вороньим крылом при каждом его шаге. Собаки, увидев незнакомого человека без сопровождения няргинца, стаей набросились на него. Поп отбивался от них, пинал ногами в кроваво зияющие пасти, но собаки наседали на него. Пиапон с Гангой выхватили палки из кучи плавней и побежали спасать священника.
— Не разгоняйте, — закричал им Холгитон, — пусть немного покусают его! Слышите! Не разгоняйте быстро...
— Зачем? — вдруг спросил урядник Холгитона.
— Твоя понимай нанайский язык? — испугался Холгитон и невольно сделал шаг назад, точно ожидая удара.
— Не понимаю, но по твоему лицу, так сказать, по голосу догадываюсь. Скажи, поп приезжал сюда хоть раз, как засел в Малмыже?
— Его тут нечего делай. Другой поп лето, зима приходил, русское камлание делал.
Ганга с Пиапоном разогнали собак. Поп рысцой припустил к лодке.
— Его больше сюда не приходи, — улыбнулся Холгитон.
— Как же дети, новорожденные? Их кто, так сказать, крестит?
— Зачем крестить?
— Но вы же крещеные, значит, и дети ваши обязательно должны быть крещены!
— Черт знает, моя не знай.
— Тебя-то крестили, как назвали?
Холгитон вспомнил, как его зовут все малмыжские друзья, и назвался Харитоном.
Потом урядник интересовался охотой, рыбной ловлей, спрашивал, не обманывает ли китайский торговец при отоваривании пушнины, не притесняют ли русские крестьяне, в чем нуждаются няргинцы.
Подошли Пиапон с Гангой, в их глазах по-прежнему была тревога.
— Каких-нибудь, так сказать, происшествий не было за лето? — спросил урядник.
— Ничего не было, чего может быть? Мы рыба лови, охота ходи, мы мирно живи. Чего может быть? Ничего не может быть.
— Должен я все знать, потому и допытываю, — улыбнулся урядник. — Я страсть люблю гольдов, хорошие вы люди, честные, справедливые, храбрые, ну и... рыбаки хорошие... охотники хорошие. Меня в других стойбищах гольды, так сказать, очень любят, потому что я всегда стою за вас. Если кто обижать станет, скажите мне, я быстро того приструню. Я заметил, староста Харитон, батюшка к вам не особенно...
— Плохой человек, — сказал Холгитон.
— Вот, вот, он вас не любит, — понизив голос и оглядываясь на берег, продолжал урядник, — а поп должен любить всех людей. Я, так сказать, полицейский и то всем сердцем люблю вас, а он поп, и не любит. Нехорошо, очень нехорошо.
— Другой пон надо, — вставил слово Ганга.
— Об этом и я думаю, буду думать. Я люблю вас, гольды меня тоже, так сказать, любят, они мне каждый раз то соболя дарят, то выдру несут, а раз даже чернобурую лису подарили. А все почему? Потому, что я им всегда добра желаю, за них горой стою.
Урядник растрогал слушателей, и каждый из троих увидел в нем своего защитника, который искренне относится к ним, понимает все трудности их жизни. Они поверили каждому его слову.
«Смотри, как он подметил про попа, — удивился Холгитон. — Полицейский, начальник русский, а понял, как его сородич зол на нас, с полуслова понял. Если бы не любил он нас, закрыл бы уши, глаза — ничего не слышал, не видел и знать не знал. А он рассердился, выгнал попа к лодке, когда собаки напали, не побежал ему помогать. Хороший русский начальник!»
Пиапон с Гангой думали о беглецах и преследователях, и урядник, казалось им, в будущем сослужит хорошую службу, если произойдет какая трагедия. Он поможет, зачем ему зря такие хорошие слова на ветер бросать?
— У меня есть соболь, как вы думаете, надо последовать примеру других охотников, надо подарить? — спросил Холгитон по-нанайски.
— Надо, надо, — ответил Ганга, — он нам другом стал.
— Дари, видно сразу — хороший человек, — сказал Пиапон.
Урядник понял, что слова его попали на добрую почву, что он достиг цели, и для вида заспешил на берег, протянул руку на прощание.
— С этого дня будем, так сказать, друзьями, — сказал он. — Какая помощь понадобится — сообщите, всегда помогу. Ну, ладно, прощайте, друзья.
— Подожди, маленько подожди, — заторопился Холгитон. — Мы хотим тебе соболь дарить.
— Да что вы, что вы, — запротестовал урядник, — мы же, так сказать, только подружились, я еще ничем вам не помог. Когда дружба наша, так сказать, окрепнет, тогда можно подарки делать.
Холгитон вошел в фанзу и вынес искрившегося на солнце рыжеватого соболя.
— Вон, бери, большой наша друга, — торжественно проговорил он.
— Ну что ты, Харитон, такой дорогой подарок! Ладно, я докажу, что я большой друг гольдов. Вот так надо дружить, друг другу всегда хорошее делать, а не за столом с водкой, как китайские купцы поступают.
— Русские тоже так делают, — сказал Ганга.
— Я доберусь до них, я им покажу, как грабить честных моих друзей. Я докажу, что я вам большой друг!
Урядник спрятал шкурку соболя на груди под мундиром, пожал всем руки и, поддерживая шашку, важно зашагал на берег.
— Не провожайте меня, мои друзья, — сказал он на прощание. — Там, на берегу, сидит поп, который вас, так сказать не любит, лучше вам его не видеть. Прощайте.
Холгитон сел под сушильней юколы, рядом опустились Пиапон с Гангой. Они с умилением глядели в спину урядника, так неожиданно ставшего их защитником и другом.
— Хороший человек! — вздохнул Ганга.
— Честный, простодушный, — ответил Холгитон.
— Зачем он приезжал? — спросил Пиапон.
— Узнавать приезжал, как мы живем, не перемерли ли все, и всякое такое.
— А я испугался, — думал, что про Поту узнал, — сказал Ганга и впервые засмеялся.
Лодка уходила от берега, урядник сидел спиной к стойбищу, ни разу не обернувшись к провожавшим его новым друзьям. Провожающие смотрели ей вслед и молча сосали трубки. Им даже и в голову не приходило, что урядник был всего лишь сладкоречивый обманщик.
— Интересно, почему знакомые малмыжцы-гребцы не вышли на берег, не подошли к нам? — наконец прервал молчание Пиапон. — Раньше, бывало, приедут и тут же прибегут к нам.
— Боятся бачика, злой он, как собака, — ответил Холгитон.
— Не одного бачику боятся, боятся и того, который с шашкой, — заметил Ганга. — Русские тоже боятся своих начальников.
— Этого, с шашкой, чего бояться, он добрый человек, — сказал Пиапон.
— Да, такому ничего не жалко, такому все можно отдать, — подхватил щедрый Ганга.
Лодка подошла к скалам, обогнула их и исчезла из глаз.
— Думаю, они неспроста приезжали, что-то им нужно было, — сказал Холгитон, прочищая трубку. — Про взрослых и детей спрашивали, будто про собак, сколько у кого. Неспроста это. — Холгитон продул трубку. — В дни нашей молодости, помнишь, Ганга, русский бачика отнимал детей от родителей, твоего Улуску чуть не забрал.
— Я тогда спрятал его, — усмехнулся Ганга.
— Думаю, они опять собираются детей отбирать, учить будут, себе заберут. Помните, лет десять назад в Болони детей учили писать и читать.
— А что из этого получилось? — спросил Пиапон. — Знаю я молодых охотников, которые учились там, охотятся и рыбачат не лучше нас, только что русскую молитву запомнили...
— Русский бачика их охотниками не сделает, — заметил Ганга.
— Надо всем сказать, чтобы в приезд русских, как и раньше, прятали детей, — сказал Холгитон.
— Правильно, прятать надо, как мы прячем сэвэнов, лучше даже, — подтвердил Ганга.
Пиапон понял: бездетный Холгитон и Ганга советовали ему и тем односельчанам, которые имели детей. Что же, Пиапон согласен, он предупредит женщин большого дома, чтобы они прятали детей, как только увидят русских начальников.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Горная река с прозрачной как слеза водой журчала днем и ночью, то напевая песню детям, то для влюбленных юношей и девушек; в этой песне не было слов, и мотив ее был однообразен, но Пота и Идари сердцем слушали ее и потому все понимали: Им казалось, что река поет песни для них одних, птицы ведут хоровод и веселятся в березняке только для них.
— Почему мне здесь так хорошо? Ну, скажи, почему? — повторяла Идари, ласкаясь к мужу. — Никогда я раньше не прислушивалась к птичьим песням, не любовалась горными речками, а теперь будто мне вставили совсем другие глаза, другие уши, я теперь все слышу, все люблю, и мне хочется, как маленькой девочке, кричать, смеяться, потом кому-нибудь дерзить...
Пота слушал жену и улыбался. Ему тоже нравилась бурная река и шумливые березки вместо тальников, высокий глиняный берег вместо сыпучего горячего песка. Он любовался одинокой осинкой, тонким, еще не совсем окрепшим ее стволом, жадно тянувшимся к небу, к солнцу. Вокруг поляны стояли березы, дальше — орешник вперемежку с кленами, с липами, с темными суровыми кедрами, пихтами, и нигде поблизости не было другой осины. Каким ветром, откуда занесло на веселую полянку семечко осины? Осинка была молодая, она завистливо смотрела на веселые шумные березки, тянулась к ним.
Стойбище называли Полокан — осинка, оно тоже было молодое, стояло в отдалении от других — до самого ближнего добираться целый день.
Пота сперва обрадовался, почувствовал себя наконец освобожденным от давившей тяжести — теперь он надежно укрылся от преследователей, встретил смелого охотника-защитника, назвавшего его младшим братом. И молодой муж, позабыв об обязанностях главы семьи, предался беззаботной любви. Токто с улыбкой умудренного человека смотрел на ворковавших в его фанзе молодоженов и считал себя тоже счастливым, потому что дал возможность этим влюбленным без страха за свою жизнь, без заботы о жилье, пище предаваться любви.
Проходили дни, и чем больше Пота привязывался к жене, тем неотступнее его начал преследовать страх: он боялся, что в его отсутствие кто-нибудь явится и увезет Идари. Пота долго не рассказывал названому брату о своей тревоге, но однажды просительно, стыдливо опустив глаза, сказал:
— Токто, ага, ты не смейся надо мной, я столько переживал, ночами не спал, когда бежали... ты не смейся, я очень люблю жену... Мне страшно ее оставлять дома, я боюсь ее потерять. Пусть при мне приедут, я буду ее защищать...
Токто, будто не расслышав последних слов Поты, сказал:
— Пота, мне, наоборот, хорошо, что в моем доме поселилась любовь, я даже вижу, как вокруг от этого все покрасивело...
Юноша с изумлением взглянул на названого брата и не мог понять, всерьез тот говорит или смеется над ним. Но ему понравились его слова, и он сказал:
— Когда увижу, что все стало спокойно, что больше нам нечего бояться расплаты, я вновь охотиться начну, рыбу ловить...
Но Пота гораздо раньше принялся за хозяйственные дела. Однажды днем он пошел с Идари за голубикой на марь, раскинувшуюся между двумя густыми большими релками. Здесь они и прежде часто собирали ягоду, лежали и обнимались на мягких моховых подушках и смотрели на голубое радостное небо, на плывущие легкие облака. Пота собрал несколько горстей крупной ягоды, половину бросил в берестяной туесок, висевший на поясном ремне, половину отправил в рот. А Идари рядом с задумчивым видом отряхивала ягодник в широкую посудину с низкими бортами. Ягоды сыпались вместе с листьями, с ползавшими по ним букашками и сухими веточками. Обычно она провеивала ягоды и чистые ссыпала в свой большой туесок. Но сегодня она была какая-то рассеянная, и Пота увидел, как она ссыпает ягоды с мусором.
— Ты грустишь? Что с тобой? — спросил он, исподтишка наблюдая за ней.
— Задумалась, — грустно улыбнулась Идари.
Пота подошел к ней, обнял за талию.
— Собирай голубику, нам надо спешить, сегодня хозяйки таксу делают из сазанов, с ягодой — ох как вкусно будет!
Идари смеялась, старалась быть веселой, но Пота видел, что она чем-то озабочена.
— Нет, ты что-то скрываешь от меня. Может, заболела?
— Собирай, собирай, нас дома ждут.
— Пусть подождут, а я хочу тебя обнять! — Пота подхватил жену на руки и пошел вокруг куста, приговаривая: — Пусть ждут. Пусть ждут. Пусть ждут.
— Отпусти, отпусти, — умоляла Идари, шутливо отбиваясь.
— Хочешь, я тебя так до дому донесу?
— Неси, неси, что тебе в стойбище скажут? Скажут: вот так охотник, женщина на нем верхом едет. Какой это охотник? Тьфу!
— Пусть смеются, разреши только, и я понесу.
— Не позорься, не хочу видеть твоего позора, не хочу, чтобы ты меня на руках носил.
— А я буду носить.
— Носи, а я грязная...
Пота испытующе посмотрел в глаза жены и осторожно опустил ее на желтый мягкий мох.
— Почему не сказала раньше?
— Хотела сказать, да ты вот...
Пота подавленно молчал. «Нехорошо вышло, — думал он, — очень нехорошо. Грязная женщина сверху на меня глядела. Хоть жена, хоть любимая — нельзя, старики говорят, это самая плохая примета: если грязная женщина поднимается в амбар, а под ним окажется охотник, то его всю зиму преследуют неудачи, звери не допускают близко. А мне надо зимой как никогда удачливым быть, много пушнины добыть. Что будет? Что будет?»
Идари насмешливо, лукаво поглядывала на испуганное лицо мужа, потом не выдержала и рассмеялась:
— Будешь меня носить еще? Будешь?
— Тебе надо было предупредить, ты же знаешь — это плохо.
— Знаю, но я, говорю, не успела предупредить.
Увидев, что Пота опустил голову, Идари засмеялась еще громче:
— Я пошутила. Испугался? Скажи, испугался?
— Этим не шутят.
— А я пошутила. Не хотела, чтобы ты меня носил, вот и пошутила.
— Правда?..
— Чистая, говорю, чистая. — Идари отвернулась от мужа и, помолчав, стыдливо добавила: — У нас будет маленький...
— Маленький? — почему-то шепотом спросил Пота. — Это правда? У нас сын будет?
Идари не ответила, она не могла больше ничего говорить мужу. Даже то, что она сообщила, — это уже лишнее, и этого не надо было делать в тайге. Пота тоже не стал больше расспрашивать, он взял жену за руку, и они побежали домой. В фанзе молодожены отстегнули неполные туески с пояса и отдали хозяйкам. Жены Токто выбирали кости из вареной рыбы, чтобы потом пережарить ее на таксу. Они привыкли к чудачествам молодых и нисколько не удивились, когда Пота, не отпуская рук жены, прошел в дальний угол и начал о чем-то у нее допытываться. Идари отвечала мужу, и оба счастливо смеялись.
— Сын, сына я хочу, — возбужденно шептал Пота, — как хочешь, но я сына хочу, поняла?
В фанзе — не в тайге, тут можно говорить в полный голос, в фанзе нет злых духов, здесь живут только добрые сэвэны, они могут все знать и будут защищать будущего младенца от посягательств злых духов.
— Я поеду на охоту, я добуду скопу, может, разыщу ее гнездо, говорят, в гнездах часто находят ее бруски, которыми она свои когти точит, если этим бруском наточить острогу, то острога будет бить без промаха. У нас сын должен быть лучшим острогометателем, поняла? Если не разыщу гнезда, то скопу добуду, ты съешь ее глаза, и наш сын будет самым востроглазым, чтобы даже на дне озера увидел рыбу — вот как! Я добуду скопу, ты только сына мне роди.
— Я не знаю, как это сделать, — прошептала Идари.
— И я не знаю. Оба, наверно, знает, ты у нее спроси. Эх, Идари, у нас сын будет! — Пота обнял жену, приподнял и посадил на нары.
— Чего это так мало ягод принесли? — спросила старшая жена Токто, разглядывая полупустые туески. — На мари ягод не стало? Медведи все поели?
— Есть ягоды, да вот... — Пота замялся.
— Иди на улицу, — сказала Идари и счастливо засмеялась.
Она подсела к женщинам и начала им помогать выбирать кости. Женщины с улыбкой ожидали сообщения Идари. Жены Токто — старшая Оба, младшая Кэкэчэ — несколько дней приглядывались в Идари, примеривались, потом полюбили ее, как свою сестру. Теперь у них не было между собой тайн.
— Сказала, — смущенно призналась Идари. — Сына хочет, даже требует. Скопу собирается убить, глазами ее меня хочет накормить.
— Это хорошо, — ответила Оба.
— Наш ведь тоже обрадовался, когда узнал, что я беременна, — сказала Кэкэчэ. — Только он велел никому ничего не говорить: у нас трое умерли. Ты тоже меньше болтай.
Пота выбежал на улицу, дружески кивнул одинокой осинке, долго стоял на берегу речушки и смотрел на ее светлые воды и улыбался. Улыбался он и встречным жителям стойбища. Подошел к сидевшему на берегу речки Токто. Тот вырезал на новой деревянной поварешке затейливые узоры. Ручка поварешки — шея утки с мелкими перьями — венчалась словно живой головой. Токто в стойбище слыл за мастера. К нему обращались охотники, одни просили сделать маховик, другие — весла, и что бы ни делал Токто, он не мог не украсить вещи узорами, он их вырезал ножом, выжигал железом. Все вещи, изготовленные Токто, можно было издали безошибочно узнать по виду.
— Ты что такой улыбчивый? — спросил Токто.
— На марь ходил, ягоды собирал.
— Наверно, много собрал, потому улыбаешься.
— Совсем мало, только на дне туеска принес.
К ним подбежали двое мальчишек с луками и стрелами.
— Дака, у нас стрелы без набалдашников, сделай набалдашники, — попросил один.
— С остриями в разные стороны, ладно? — добавил другой.
— А почему наконечники не хотите? — спросил Токто.
— Мы на птиц идем охотиться, на них лучше набалдашники.
Пота погладил ближнего мальчонку по голове, пригретая солнцем головка приятно теплила ладонь.
«Мой сын так же будет бегать за птицами, и голова у него будет такая же теплая, — подумал Пота. — Я ему изготовлю много-много стрел, самые лучшие луки будут у него...»
Токто отложил в сторону почти готовую поварешку и принялся вырезать набалдашники для мальчишеских стрел.
Дака — почтительное обращение к старшим.
— Вот всегда у вас так: как только идти на охоту, тогда только вспоминаете об оружии, — ворчал он. — То у вас тетива плохо натянута, то она порвалась, то наконечники притупились, то набалдашники потерялись. Ох и охотники вы! Токто словно забыл о Поте, он разговаривал с мальчишками, добродушно поучал их и весь был занят только ими. Подошла Оба и попросила поварешку.
— Не готова еще, мама, — сказал он. — Видишь, тут охотники пришли, в тайгу собрались, а набалдашников нет на стрелах. Как ты думаешь, что важнее — твоя поварешка или охотничьи стрелы?
Оба улыбнулась и отошла.
— Стрелы важнее. Верно, Пота?
Токто вырезал четыре набалдашника, надел их на стрелы и отпустил обрадованных мальчишек.
— Если вам свистящие или воющие набалдашники нужны, приходите, — напутствовал мастер юных охотников. Взглянув на Поту, он улыбнулся: — За ягодами ходил, говоришь? Поэтому улыбаешься? А я улыбаюсь, когда что-нибудь сделаю для этих мальчишек; их радость — моя радость. Эх, побежали! — Токто смотрел счастливыми глазами вслед мальчишкам.
— Поедем на охоту? — вдруг предложил Пота.
— На что, на уток?
— Что утки, твоя собака обойдет озеро — мешок уток соберет. На лося поедем.
— Поедем. Давно я не стрелял их. Только на чем ты поедешь?
— Попрошу у кого-нибудь оморочку.
— Ну, хорошо, попросишь, а что потом? Дадут тебе раз, два, потом спросят, сколько раз можно давать? Думал я, коли ты сейчас собрался на охоту и дальше думаешь охотиться, тебе необходимо свою оморочку заиметь.
— Где я ее добуду?
— Надо сделать, есть руки — оморочка будет.
В этот же вечер соседи Токто принесли три больших свертка бересты. Охотники заготовляли ее для себя, думали в свободное время сделать новые оморочки, но так как новый житель стойбища не имел собственной, они отдали бересту ему. Через пять дней Пота сидел в легкой дяи — берестяной оморочке с изящно загнутыми кормой и носом, испещренными искусными узорами Токто, маховик тоже был весь в орнаментах, выжженных железом.
— Теперь можно ехать на охоту, — удовлетворенно сказал Токто. — Нигде не протекает? Вроде бы смолы не жалел.
— Не протекает, — радостно сообщил Пота. — Ух, какая легкая!
— Намаешься за целый день, к вечеру и оморочка покажется тяжелой, как кетовый неводник, — сказал сосед Токто, Пэсу Киле, пожилой охотник с реденькой поседевшей бородкой.
— Добрая оморочка, — заявил старик Чонгиаки Ходжер. — Что Токто ни сделает — все у него получается добротно. Тебе, нэку, повезло, родственник твой на всю Харпи мастер.
Поте сочувствовали, его всячески поддерживали и словом и делом. Это он давно заметил и терялся в догадках: не проболтался ли названый брат и не потому ли к нему относятся так сочувственно? Или у хэвэнских, озерских нанай в душах заложена эта доброта, бескорыстность? Потом, поразмыслив, вспомнил своих няргинских — зря он о них стал плохо думать, ведь они так же добры и бескорыстны, как и хэвэнские. Он вспомнил своего беспутного отца, его щедрость, граничащую с безрассудством. Отец никому никогда не отказывал в помощи, отдавал последнюю юколу и сам оставался голодным. Три года назад, во время большой воды, осенью кета поднималась по Амуру, выискивая протоки с малым течением, и рыба не попадалась в невода. Юколы насушили очень мало, и в конце зимы начался голод. Тогда Ганга отдал последние связки юколы тем семьям, у которых были дети, а сам, как и многие охотники, ушел в тайгу собирать кору молодых деревцев, кустарников. Не один Ганга тогда так поступил, все охотники, у кого не было малых детей, отдавали припасы продовольствия многодетным.
— Ничего, у нас желудки железные, — все переварят, — находили они силы шутить.
Много детей все же умерло, да и взрослые были как мертвецы — кожа да кости. Кое-как дождались ледохода, весны. Вспомнил Пота и злого страшного Баосу, который, не умея плавать, однажды бросился в воду спасать утопающего товарища. Нет, не одни хэвэнские с широкими, добрыми душами!
Пота присматривался, прислушивался к разговору новых соседей, с которыми ему суждено жить многие годы, а может, и всю жизнь. Только теперь он начал различать разницу в говоре хэвэнских, их пристрастие к охотничьим разговорам. Когда они азартно, в полный голос, перебивая друг друга, заговорили об охоте, на Поту точно подул тугой весенний ветер, затрепетали над ним крылья перелетной птицы, загомонили гусиные бесконечные стаи, заплескалась зеленая вода в озерах. А полоканцы продолжали свой веселый разговор, так похожий на весенний гомон птиц, и не догадывались о чувствах Поты.
— Охота от нас не уйдет, — наконец переменил разговор Токто. — Кета скоро подойдет, надо собираться на Амур.
— Чего собираться, мы готовы хоть сейчас выезжать, — ответил Чонгиаки Ходжер.
— Мы готовы, — поддержал отца сын Чонгиаки, Гокчоа.
— Кета нынче хорошая будет, жирная, — сказал стоявший возле Гокчоа молодой охотник.
— Откуда знаешь?
— Как откуда? Вода небольшая на Амуре...
Охотники захохотали, хлопая себя по бедрам, придерживая животы.
— Эх ты, хэвэнский нанай, — смеялся Токто, — не зря амурские смеются над нами, такие, как ты, дают им повод. Да запомни, кета с моря идет, по Амуру поднимается к своим нерестилищам. Какая в море откормится, такая и придет.
— Знаю, будто не знаю... — обидевшись, оправдывался парень.
Когда шум утих, Токто сказал:
— Я дней через десять выеду. Сначала съезжу на лося с Потой, покажу ему хорошие места...
— Ты не сказал, где кету будешь ловить?
— Как где? На старом месте, на правом берегу Амура, ниже Малмыжа.
— Русские, может, не пустят... они тони захватывают...
— А мы без рук, что ли? Защищать тони будем.
— Амурские не защищают, а ты что сделаешь?
— Найдем место, Амур широк, песчаных кос хватит. Почему ты, Пэсу, молчишь? На кету не собираешься?
Пэсу молчал во время разговора, но Токто знал о болезни его отца, самого древнего в стойбище старика. Отец Пэсу на днях внезапно слег, и шаман сказал, что злой дух ужо не покинет стойбища, пока не заберет старого охотника.
— Я не могу ехать на кету, пока отец болен, — грустно ответил Пэсу. Он почитал отца, давшего ему жизнь, научившего отличать в этом мире хорошее от плохого, добро от зла. Сам Пэсу давно дед, скоро станет прадедом, но, несмотря на это, он любил старца отца. Отец, какой бы он ни был, — всегда есть отец!
— Сыновья, может поедут?
— Они тоже не могут поехать.
— Как же тогда, без юколы останетесь?
«Старик умирает, ему не понадобится еда, а вы-то будите жить, — подумал Пота, не подозревая о жестокости своей мысли. — Вам-то понадобится еда, чего же сидеть у ног умирающего?»
А Токто думал о другом — о том, как бы собрать артель из молодых сильных охотников и наловить столько кеты, чтобы хватило на все стойбище, даже для тех, кто не выедет по каким-либо причинам на путину. Беда пришла в дом Пэсу — разве он в этом виноват? Правда, сыновья его могли бы выехать, но если они высоко почитают деда и не хотят, чтобы он умер без них, — их дело. Просто им надо помочь.
Охотники разошлись по домам — подходило время еды. Токто с Потой жили как одна семья, они даже ели за одним столом. Женщины подали подогретую уху из сазана.
— Как же мне быть, ага? — спросил Пота. — Мне нельзя на Амур выезжать с тобой.
— А я тебя и не просил, ты оставайся здесь и заготовляй мясо, копти, суши.
— Без юколы останусь?
— А я на что? Неужели на два лишних рта не смогу заготовить?
— Мне все же неудобно, ага, ты столько делаешь для нас.
— Когда я состарюсь, как отец Пэсу, тогда долг отдашь, — засмеялся Токто.
На следующее утро Токто с Потой выехали на охоту. Поднявшись выше по Харпи, Токто свернул в какой-то приток Харпи.
Речушка была настолько узка, что маховое весло доставало до ее берегов и вместо воды задевало высокую траву. Чуть выше речка раздавалась вширь.
— Это наше любимое охотничье место, — сказал Токто, — видишь, сколько тут трехлистника, здесь лоси жируют.
Токто остался на месте, а Пота на ночь отправился выше. Пота слышал ночью выстрел, а утром сам подстрелил крупного черного сохатого. Разделав добычу, он погрузил мясо в оморочку и спустился к Токто.
Ехал юноша по речке и думал о названом брате. Месяц Пота живет у Токто, месяц они спят под одной крышей, едят за одним низеньким столиком, но юноша совсем мало знает о старшем брате.
У Токто две жены, старшая, Оба, родила ему трех детей, но они все умерли, не дожив до года. После третьего ребенка Оба больше не имела детей, и Токто взял вторую жену, потому что очень хотел детей. Вот, пожалуй, и все, что знает Пота. Но у Токто должны быть родители, братья, сестры и близкие родственники, ведь ему не больше тридцати лет. О родственниках никогда не говорил Токто. Почему он всем хэвэнским представлял Поту как своего родственника?
— Талу будем есть! — весело встретил брата Токто.
Пота кивнул головой, он согласен есть талу, он любит талу из калужьего мяса, которое имеется в лосе. Легенду об этом калужьем мясе он знает с детства, ее часто рассказывал отец, кажется, он и знал-то только эту легенду.
Когда-то давным-давно встретились на Амуре самый большой зверь тайги — лось и исполин реки — калуга. Они понравились друг другу, подружились и в знак дружбы обменялись кусками мяса. С тех пор в лосе стали находить необычное для него беловатое мясо, а в калуге — красное, лосиное.
— С калужьей талой идет костный мозг, — сказал Токто и сильными ударами ножа разбил трубчатую голенную кость и вытащил розовый мозг.
После еды охотники разложили костер и начали коптить мясо, в котле вываривали головы и лучшие куски сохатины. Пота собирал дрова для костра, ветки зеленого тальника для дыма и оглядывал небо, примечая пролетающую птицу — ворону, сороку, коршуна. Лежа возле булькающего котла, он увидел парившего ширококрылого орла.
— Орел вышел на охоту, — уважительно сказал он. — А вот скопы не видно.
— Скопу здесь не увидишь, — ответил Токто. — Здесь мало рыбы, она с голоду околела бы. Эта востроглазая обитает только возле больших рек и широких озер.
«Придется спуститься ниже нашего стойбища, в другом месте ее не встретишь», — подумал Пота.
— Утки табунятся, — продолжал Токто. — Видел утром, какие большие табуны квохты летали? На родину собирались...
— Какая у них родина? Весной на север летят, осенью на юг, какая там у них родина.
— Есть у них родина, Пота, у каждого, даже самого крохотного существа, есть родина. Ты скучаешь по Амуру?
— Скучаю. Я ведь там родился, жил.
— Я тоже скучаю, я ведь тоже амурский.
— Амурский? А зачем сюда переехал? — Пота даже приподнялся: сейчас он узнает все о старшем брате.
Токто длинной выструганной палочкой переворачивал мясо в котле.
— А ты зачем переехал? — после долгого молчания спросил он.
— Ты же знаешь, я бежал.
— Я тоже бежал.
— Как бежал? От кого бежал?
— От людей бежал, Пота, точно так же, как и ты, только ты отвечал за свое дело, а я за чужое.
Токто привстал, снял с тагана котел, вытащил из него мясо и сложил на траву, бульон слил в берестяные чумашки, сходил по воду к реке, наполнил котел свежим мясом и опять повесил над огнем.
— Ешь мясо. Бульон будешь пить?
Пота жевал мясо и ожидал продолжения разговора, но Токто будто забыл о нем.
— Брат моего отца был молод в те годы, — наконец начал он рассказ. — Он был смелый охотник, вспыльчивый человек, неженатый. В нашем стойбище не было невест, если бы даже и были, он не смог бы жениться, отец рассказывал — они в то время были очень бедны. Брат отца соблазнил жену соседа и начал с ней жить в отсутствие ее мужа, но у мужа были братья, сестры, они и рассказали ему об измене жены. Муж ничего не сказал, сделал вид, что уезжает на рыбную ловлю, а в сумерках вернулся, подкараулил жену с моим дядей и убил изменницу. В те времена русских на Амуре было мало, законы их еще не вошли в силу, а по нашим законам — купил жену, заплатил за нее тори, хочешь — живи с ней, хочешь — перепродай, а хочешь — убей. Отец рассказывал, много было случаев, когда мужья из-за ревности убивали своих жен. Дядю моего тот охотник не тронул, боялся, видно, кровной вражды, ведь мужчина — это не женщина, да еще мужчина из другого рода! Но дядя мой был злопамятный человек, к тому же он любил ту убитую женщину. Однажды на охоте он подкараулил убийцу-мужа и застрелил его. Через два месяца только разыскали труп, собрали кости и похоронили в родовом могильнике. Стали гадать: кто убил? Никто не знает, думали, сам умер от чего-нибудь, но шаман своим колдовством узнал все же убийцу. Через год убили моего дядю. Отец вскоре узнал, кто убил, — это был брат того охотника. Так началась тихая, необъявленная вражда. Отец рассказывал, что такая вражда и раньше случалась, но враждовали в открытую, а у них умрет человек, а кто убил — только шаман узнает. Через пять лет или семь отец отомстил за брата, он говорил — не стрелял, ножом не резал, а в воде утопил. Нашли — утопленник и утопленник, перевернулась оморочка, и он утонул. Но шаман опять разузнал. Мне тогда было семнадцать-восемнадцать лет, я был единственный сын у отца, значит, единственный человек, который может продлить род. Отец знал, что его ждет, но не хотел, чтобы закончился наш род, и насильно заставил меня бежать. Так я оказался здесь, на реке Харпи, среди хэвэнских нанай. Лет через десять я узнал: отца нашли в тайге под упавшим деревом, а мать вскоре умерла от горя.
Токто опять стал переворачивать мясо в закипевшем котле.
— Убили, наверно? — спросил Пота.
— У них большая семья была, мужчины еще подрастали.
— Они знают, где ты?
— Не знаю.
Пота задумался. Могла ли у них произойти такая же вражда с большим домом Баосы, если бы Баоса разыскал его и убил? Нет, не могла бы, некому постоять за честь рода: отец беспомощен, Улуска бесхарактерен, и злости у него нет. Потом еще русские помешали бы, не допустили бы вражды, русские законы уже в силе.
— Эх, были бы у меня дети!
Пота вздрогнул: столько было печали и боли в этом возгласе Токто, так он это произнес, что Пота не мог не вздрогнуть.
«Вот почему он детей хочет! Он надеется отомстить за отца. Этого же нельзя теперь делать».
— Род продолжить велел отец, а у меня дети все мрут.
У Поты сжалось сердце от жалости, он вдруг обрадовался своему ошибочному осуждению. Токто не хочет мстить, он хочет продолжить свой род! Так велел отец, он должен выполнить его наказ! Пота вдруг вспомнил, что на нем тоже лежит такая же обязанность, ведь, кроме него, некому продолжить род, на Улуску нет надежды, он «вошедший» в большой дом Баосы, дети его хотя и будут считаться Киле, но их воспитают в большом доме, и нечего от них ожидать, чтобы они поддерживали огонь в очаге бедного Ганги.
После тяжелой исповеди Токто замолчал, замкнулся и до наступления сумерек промолвил лишь несколько слов.
Когда в сумерках на них выбежала лосиха с длинноногим глупым лосенком, Пота выхватил ружье, прицелился, но Токто ударом руки отвел ствол, и юноша выстрелил в воздух.
— Зачем? — грустно сказал Токто. — Мясо есть, больше не поднимут оморочки. — Помолчав, добавил: — Лосенок без молока остался бы, пропал...
На следующий день начался проливной дождь, коптить мясо не стало возможности, и охотники погрузили недокопченные кренделя мяса и выехали домой. Дождь усилился и лил не прекращаясь. Оморочки собирали дождевую воду, и приходилось останавливаться и вычерпывать ее. Узенькая речушка разбухала на глазах, ширилась, шумела, несла коряжины, поваленные деревья и всякий мелкий лесной хлам. Оморочки катились рядом с плавинами. Пота отгребал в сторону от них и боялся взглянуть на берег: кусты, деревья мелькали до ряби в глазах. Токто как ни в чем не бывало размеренно махал веслом, обгонял коряжины, только на крутых поворотах напрягался, озабоченно оглядывался, но как только выезжал на прямую, опять становился беззаботным. Он видел испуг в глазах Поты и хотел своим поведением успокоить его.
— Самое страшное в такой внезапный паводок — оказаться без оморочки, — усмехнулся он, видимо вспомнив что-то смешное. — Три года назад сын Чонгиаки Ходжера, Гокчоа, попал в беду. Парень любит лишнее поспать, с вечера сделал навес и уснул на земле. Дождь хлещет, стучит по берестяному навесу, просто глушит, — не понимаю таких охотников, как они засыпают при таком шуме, я ночи напролет не могу сомкнуть глаз, а он уснул, знал, что в такую погоду лоси не выходят на озера и речки. Ночью почувствовал неладное, кабанья шкура под ним подмокла, но он передвинулся на другое сухое место и опять заснул. А когда проснулся, было уже поздно: вода прорвалась, затопила место, где он спал. Гокчоа — ружье в руки, постель свернул — и к оморочке, а оморочки нет, ее унесло водой. Что делать? Вот ты запомни: на горных речках, если почуешь на земле, то оморочку вытащи и обязательно привяжи к деревцу. Гокчоа, как бедный зайчишка в наводнение, переминался с ноги на ногу, потом полез на дерево. Испугаться он не очень испугался, знал — люди помогут, — я с его отцом был выше. Подплываем к тому месту, где оставили Гокчоа, и видим: сидит наш охотник на нижнем суку кедра, за плечом ружье, под рукой свернутая постель, а сам мокрый, дрожит. Я ему кричу: «Чего кабанью шкуру под мышкой держишь, укройся ею, и дождь тебе будет нипочем!» А отец его говорит: вот, мол, еще одного лося встретили, только не пойму, как это он на кедр взобрался? Гокчоа — он шутник — отвечает: пока, говорит, не лось — ружье сохранил, кресало есть, нож есть...
Пота слушал внимательно, он понимал: Токто передает ему свой охотничий опыт, — и с благодарностью воспринимал советы.
Ему, молодому охотнику, не набравшему житейского опыта, в незнакомой местности пригодится даже каждая мелочь. Не предупреди Токто, что надо на ночь привязать оморочку к дереву, он сам никогда не догадался бы этого сделать. Пота давно заметил на перекладине своей оморочки короткую бечевку и только сейчас догадался, для чего она предназначена.
Разъяренная, разбухшая речушка словно выплюнула оморочки на середину Харпи, и новые силы подхватили их и понесли вниз с еще большей скоростью.
К вечеру охотники подъехали к стойбищу. Первыми, как всегда, охотников встретили собаки, они храбро выползали из своих укрытий под дождь и, ежась, позевывая, сидели на берегу, ожидая хозяйской ласки, куска мяса или, на худой конец, кости. За собаками выбежали женщины, потом потянулись дети из соседних фанз, а последними подошли мужчины. Женщины и дети носили в жилище мясо, шкуры, нехитрое охотничье снаряжение, а мужчины под дождем неторопливо, сдержанно расспрашивали об охоте, состоянии речки, интересовались, много ли следов, свежи ли они. Вслед за охотниками все мужчины проследовали в фанзу.
Пота оглядывал непроницаемые лица мужчин, радостные, ожидавшие угощения — детей и откровенно жадные, даже алчные — женщин. Он но переставал удивляться: у них в Нярги без приглашения могут прийти только близкие родственники. А в Полокане было совсем по-другому, и в голове Поты никак не укладывалось, как это можно так бессовестно наброситься всем стойбищем на добычу двух охотников! Но женщины — и хозяйки и соседки — уже набивали большой котел мясом, резали на мелкие кусочки привезенное вареное мясо, перемешивали с сырой почкой, печенью, сушеной черемшой — это было любимое блюдо всех охотников.
В самый разгар приготовлений прибежал внук Пэсу Киле и позвал домой деда, отца и всех остальных домочадцев. Шум сразу утих — все поняли, что в дом Пэсу пришло несчастье. Сразу не стало первоначального веселья, оживления, люди ели молча, переговаривались шепотом, будто боялись разбудить навеки уснувшего отца Пэсу.
Когда, насытившись, гости расходились, Оба совала каждой хозяйке по куску копченого мяса на суп.
Вечером Оба зажгла два жирника, приготовила постель. Пота всегда исподтишка наблюдал по вечерам за Токто и гадал про себя, с какой женой в эту ночь ляжет его названый старший брат. Но Токто, видимо, никогда не задумывался над этим, он ложился в первую попавшуюся постель и мог подряд несколько ночей спать со старшей женой, а ночь с молодой, случалось и наоборот — он спал только с молодой, будто забыв о старшей жене.
— Мы проведаем Пэсу, — сказал Токто после ужина.
Пота устал за день, он переволновался, спускаясь по бешеной реке, перемерз, на нем не было сухой нитки, когда вернулся домой. Теперь, после обильной вкусной еды, переодевшись во все сухое, он блаженно лежал на нарах, вытянув отекшие ноги, расслабив руки и все тело.
— Пота, ты пойдешь к Пэсу? — спросил Токто.
— Иду.
— Ты устал, может, отдохнешь? — прошептала Идари.
Пота нежно обнял жену:
— Мы скоро вернемся, жди.
Токто с Потой просидели возле покойника до полуночи, тихо беседуя с остальными соболезнующими соседями. Пэсу, с красными опухшими глазами, курил трубку за трубкой.
— У кого найдется бронза? — спросил он.
Все охотники призадумались. Пота выжидающе молчал; у него был небольшой кусочек бронзы, он собирался из нее сделать ушные серьги Идари. Но зачем понадобилась Пэсу бронза?
— У меня где-то есть небольшой крест русского бачика, — сказал Токто. — Поищу завтра.
— Крест бачика? — переспросил Ходжер. — Можно ли из креста бачика? Может, не возьмет?
— Ничего, лишь бы бронза была, — авторитетно заявил шаман. — Если нет бронзы, можно медные сделать.
Пота ничего не понял из разговора. Когда вернулись домой, он спросил:
— Ага, зачем бронза им потребовалась? Украшение какое хотят сделать?
— Сам увидишь, не спрашивай, — устало ответил Токто.
Когда Пота лег, Идари приподнялась и дунула на жирник, хотела на расстоянии погасить пламя, но оно затрепетало, запрыгало, точно испуганный зверек.
— Зачем гасишь свет? — спросил Токто.
— А как при свете спать будем?
— Твой муж ведь Киле, ты тоже теперь по мужу Киле...
Идари юркнула под одеяло и прижалась к мужу.
— Зачем хотела гасить? — шепотом спросил Пота. — Нельзя это делать, ведь умер наш родственник.
— Но ты же его не знал, раньше не видел.
— Все равно он родственник, все Киле теперь наши родственники. Говорят, Киле раньше жили в глухой тайге, держали оленей, потом вышли на Амур и разбрелись во все стороны. Теперь по всей реке Киле есть. Ты спишь? Пэсу зачем-то просил бронзу, у меня есть кусочек, я отдам ему, он хочет какое-то украшение сделать для отца. Токто отдает русский крест. Да что я говорю? Бронза, крест, — передразнил себя Пота. — Скажи, любимая, как наш сын?
Идари счастливо засмеялась.
— Да как я узнаю?
— Да он же у тебя!
— Ты ничего не понимаешь. Сии, ты же устал.
— А я скопу искал, не встретилась, проклятая.
— Спи, отдыхай. Не прижимайся, светло же.
На следующий день Токто разыскал почерневший бронзовый крест, привезенный первыми миссионерами-попами на берег дикого Амура. Послужил ли крест миссионеру, помог ли обратить анемистов-гольдов в добрых христиан — никто не смог бы сказать. Крест выглядел бы совсем новым, если бы не эта чернота, наслоившаяся со временем, а может, оттого, что он годы пролежал в земле.
Пота помог Токто разрубить крест на небольшие кусочки. Его разбирало любопытство, но, помня слова названого брата, он больше не надоедал вопросами. Пришел Пэсу с сыновьями.
— Ты мастер, Токто, сам изготовь, — сказал Пэсу и передал ему пять заряженных патронов.
Токто трудился весь день. Когда Пота увидел, как один из кусочков бронзы под ловкими руками Токто превратился в блестящую отшлифованную пулю, то любопытство его превратилось в муку. Он взял один кусочек бронзы и тоже сделал пулю, тщательно отшлифовал ее и отдал названому брату.
— Охо! Да ты же мастер! — обрадовался Токто, разглядывая и оценивая творчество Поты.
Когда пять бронзовых, сверкавших на солнце пуль были готовы, Токто осторожно извлек из патронов свинцовые пули и заменил их бронзовыми.
— Зачем это? — все же не выдержал Пота.
— Завтра увидишь, — хладнокровно ответил Токто. — Ты хороший стрелок, на, возьми один патрон. Что с ним делать, тебе скажут старшие.
Назавтра выдался теплый солнечный день, тихий, немного грустный, как это бывает в последние дни августа. Покойника вынесли на улицу, положили в гроб и, к удивлению Поты, не стали забивать крышку. Открытый гроб перевезли на другой берег речки и положили на невысокий, заранее приготовленный лабаз.
Пота видел много похорон, помнил обряды. Полоканцы хоронили почти так же, как и няргинцы, разница была в кое-каких обрядовых мелочах. Поту удивило лишь то, что гроб оставили открытым, покойника не закопали в могилу, а положили на лабаз.
«Здесь хоронят, как хоронили раньше, не закапывают в землю», — догадался Пота.
Пэсу и сопровождающие его полоканцы вернулись в фанзу покойника, и началось традиционное угощение. Поте тоже подносили чарочки, обнимали, орошая слезами, и Пота, не выдержав, тоже заплакал. К нему подошел Пэсу.
— Ты, нэку, меткий стрелок, мы сегодня рассчитаемся с нашим родовым врагом — чертом. Крепче держи ружье, лучше меться, когда будешь стрелять.
К ночи всех женщин и детей отправили ночевать к соседям, а в фанзе остались мужчины-охотники. С ними добровольно согласилась остаться сестра Пэсу, пожилая женщина. Два окна фанзы выходили на речку, с них сняли рамы. На другом берегу на лабазе белел гроб.
Охотники пили, говорили о всякой всячине, но никто не заикался о покойнике. Пота пил со всеми вместе, голова его кружилась, клонило ко сну, но он бодрился, как мог.
«Как же стрелять буду?» — испуганно подумал он, когда охотники в полночь стали заряжать ружья патронами с бронзовой пулей.
Пота теперь знал, для чего понадобилась Пэсу бронза и ради чего Токто разрубил на куски красивый поповский крест. Он и раньше слышал поверье о родовых, семейных врагах — чертях, уничтожавших детей, женщин-рожениц, охотников, но впервые узнал, что их можно убить выстрелом из ружья, если вместо обыкновенной свинцовой пули вложить бронзовую или медную. Оказывается, только бронза и медь в силах убить этих ненасытных чертей. Вот и сегодня ночью родовой черт Пэсу должен прийти за престарелым охотником, чтобы полакомиться им. Только в каком виде он явится? Говорят, может прийти и медведем, и волком, и тигром, и росомахой, но если узнает о засаде, чтобы трудно было в него попасть, явится колонком или еще каким мелким зверьком.
Но ничего, в каком бы виде он ни пришел, Пота постарается в него попасть, он будет стрелять вместе с названым старшим братом. Если уж Пота промахнется, то Токто попадет, он обязательно попадет. Да и других трех охотников нельзя сбрасывать со счета, они тоже меткие стрелки.
В фанзе погасили свет, охотники заняли у окон позиции и замерли. Пота напрягал зрение, вглядывайся в темень, и глаза его еле-еле выхватывали из черноты почему-то покачивающийся белеющий гроб.
— Скоро луна выглянет, — сказал кто-то.
Пота обрадовался, — выходит, остальные тоже не видят гроба. Охотники тихо переговаривались. У Поты слипались глаза, он тер их, двумя пальцами разнимал веки и подолгу держал их так. Но сон одолевал его. Сон сильнее человека.
— Эгэ, есть у тебя еще водка? — спросил Пэсу. — Что-то спать тянет, подай нам.
Пота выпил со всеми вместо и не помнил, как сомкнулись веки, как уткнулся он головой в подоконник. Проснулся он от крика сестры Пэсу. Женщина бегала от одного охотника к другому, трясла что есть силы, кричала им на ухо. Пота поднял голову — на улице разлился ровный зеленоватый свет луны, на другом берегу отчетливо выделялся белый гроб, и Поте вдруг показалось, что он видит сидящего верхом на гробу какого-то зверя.
— Стреляйте! Стреляйте! — истошным, до смерти испуганным голосом орала женщина. — Проснитесь, пришел он!
Пота не мог пошевелиться: то ли от водки, то ли от страха вдруг отяжелели руки, отказывались повиноваться, спина похолодела...
А наутро женщина рассказывала, как она услышала треск раздираемой бересты, взглянула на другой берег и увидела черта — это был огромный медведь, он сидел на гробу. Никого не нашлось в стойбище, кто бы усомнился в рассказе женщины, а Пота был уверен, что это была все же росомаха.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Незаметно подкрадывалась осень, и, как ее предвестник, над Амуром, над многочисленными протоками к вечеру поднималась метелица: трепеща крыльями, валились, словно хлопья снега, белые мотыльки. А ранним утром тихие призрачные туманы обволакивали тальники, потом, расширяясь, заползали всей вязкой массой в темную дремлющую тайгу. После каждого такого нашествия деревья выглядели усталыми, сонными, листья трепетали грустно, обреченно, теряли нежную зелень, бурели, а после двух-трех нашествий, вдруг приобретали новый яркий цвет. И однажды, утром, как только сполз белый занавес, перед взором людей, зверей, птиц тайга вспыхнула красными, желтыми сполохами, и в это время она походила на женщину, которая перед старостью внезапно преобразилась, словно заискрилась небывалой даже в молодости красотой и обаянием.
Пиапон из всех времен года больше всего любил сентябрьскую осень с ее неповторимо яркой тайгой, гомоном улетавших на юг птиц, поднимавшейся по Амуру полосатой кетой и связанными с ней хлопотами, с утренним, знобящим тело холодком и липким молочным туманом.
В жаркие дни августа он мечтал о сентябрьской прохладе, вместо линялых уток и бескрылых утят ему хотелось видеть огромные шумные стаи этих же уток, ему приятнее было смотреть на селезня, режущего грудью тугой воздух, чем видеть его же, трусливо убегающего на кривых лапках в траву.
Пиапон всегда с нетерпением ожидал сентября, как ожидал в детстве приезда гостей или возвращения отца с охоты, хотя осень несла ему новые заботы. Ему, как главному охотнику — де могдани, — приходилось беспокоиться о зимних запасах рыбьего жира, юколы из кеты, которая являлась основной пищей зимой. Пиапон просто помогал отцу, ему нетрудно было рассчитывать запасы, и это не занимало много времени, а знать, что делается в большом доме, он считал своей обязанностью. До последнего времени ему казалось, что он знает всю подноготную большого дома. Пиапон никогда не придавал большого значения ссорам жен, он редко вспыхивал и, словно устыдившись чего-то, тут же остывал и, трезво поразмыслив, приходил к выводу, что ссора для женщин это одно и то же, что выпивка для мужчин, без нее они но могут обойтись. Правда, его часто тревожила и настораживала несдержанность на язык жены, он знал, что многие скандалы возникают именно из-за нее, но он надеялся на здравый ум старшей хозяйки дома Майды, ему казалось, что Майда все же рано или поздно приучит к себе Дярикту, обломает ее. Сам он, когда оставался один на один с женой, увещевал ее, просил, требовал, чтобы она сдерживала свой острый язык. Дярикта слушалась, потому что боялась мужа.
Оставшись один дома после отъезда отца и братьев в Хулусэн, Пиапон только утром и вечером выезжал проверять сети, остальное время находился дома, ремонтировал кетовый невод, налаживал охотничье снаряжение. Он мало обращал внимания на женщин большого дома. Достаточно, что они готовят еду, вовремя кормят собак, усердно мнут, теребят рыбьи кожи, обрабатывают их для зимней обуви и одежды; они, как казалось ему, молча и сосредоточенно занимались своими делами. Пиапон даже не пытался разобраться, почему женщины не разговаривают между собой, не шушукаются, как бывало раньше, возле очага. Краем уха он несколько раз слышал короткую ругань Майды с Дяриктой, но не разобрал слов и вскоре позабыл об этом. Только через несколько дней его насторожили отчужденные лица женщин, резкие их движения, когда они оказывались рядом у очага, холодные, злые взгляды, которыми они обменивались.
«Поссорились, наверно», — подумал Пиапон и ушел под амбар ремонтировать невод. К нему подошла Агоака.
— Ага, на время уйди из-под амбара, — попросила она, — мне надо рыбью кожу достать.
Пиапон выбрался из-под амбара, отошел в сторонку к дочерям, игравшим на песке. Агоака спустилась с амбара и начала вытряхивать шуршавшие рыбьи кожи, с них сыпались на песок черные с красными полосками маленькие насекомые.
— Много у нас в амбаре насекомых, всю кожу уничтожают, — сказала она.
Пиапон забрался вновь на прежнее место, взял пустую вязальную иглицу и начал наполнять ее ниткой, и когда она растолстела, как щенок, вылакавший лоханку вареной рыбы, он начал зашивать дыры в неводе.
— В доме нашем тоже появились такие же насекомые, только их не видно, — сердито продолжала Агоака. — Они не кожу поедают, а наши души.
— О чем ты говоришь? — спросил Пиапон.
— Говорю, в амбаре много насекомых, кожу едят, были бы запасы летней юколы, они юколу бы ели.
Пиапон сам знал, что нет в амбаре летней юколы, он об этом много раз думал и про себя обвинял отца за безрассудство. Пол-лета потерять на разъездах по стойбищам в поисках беглецов!
«Хотел отец позор смыть, а теперь, видно, выйдет, что и позор не смоет и большой дом на зиму без запасов еды оставит», — подумал он.
— Кета скоро подойдет, мужчины заполнят амбар юколой. Твой муж один половину амбара заполнит, — подбодрил Пиапон сестру.
— Я о другом хотела поговорить с тобой, ага. Ты неужели не замечаешь, что в доме делается?
— Дом на месте стоит, в нем тепло, только мух многовато. А что такое?
— В вашем доме невозможно стало жить.
— Почему? Чертей много? Давай сегодня гонять их будем.
— Ты не шути, ага, я тебе очень серьезно говорю. Никогда в нашем доме такого не было.
— Ну что такое? — вдруг рассердился Пиапон. — Говори, чего кружишься, будто заяц перед лежкой.
— Ругайся не ругайся, а скажу. Вторая эука — твоя жена не дает никому покоя, со всеми ругается, каждое утро, когда нет тебя дома, собирается драться со старшей эукой. Раз они уже подрались. Когда мама была жива, она не давала им ссориться, а теперь они ругаются, ссорятся, и во всем виновата вторая эука, она, точно собака, бросается на всех нас. Я не жалуюсь, ты не думай, что я жалуюсь, нам просто не стало житья, хоть в другой дом уходи. Старшая эука все время плачет, ты разве не видишь, какие у нее опухшие глаза?
— А из-за чего ссорятся?
— Всякое бывает. Старшая эука что-нибудь попросит сделать вторую эуку, а она — ругаться, совсем не стала слушаться старшую. Вторая эука обвиняет старшую, что она задушила маму, потом говорит, что она научила бежать Идари, даже то, что нет запасов еды на зиму, тоже будто ее вина. Она всякую напраслину возводит, за всякую зацепку цепляется, лишь бы поругаться.
— Хорошо, что ты мне глаза открыла, уши мои прочистила, — ответил Пиапон.
Эука — тетя, жена старшего брата.
После этого разговора он стал прислушиваться к разговору женщин, приглядываться к их лицам, допытывал жену, но она ни в чем не сознавалась, говорила, что Майда подбила молодых Агоаку и Исоаку против нее и ее изживают из большого дома. Пиапон не поверил жене. Рассказ сестры навел его на долгие размышления, на поиски причин бесконечных, как говорила Агоака, ссор женщин. Своим разумом он понимал, устои большого дома претерпели довольно крепкие потрясения: прежний устойчивый покой был нарушен побегом Идари, относительная дружба женщин, скрепляемая стараниями матери, исчезла с ее смертью. Пиапон мысленно немного оправдывал жену, он знал, своенравной Дярикте невтерпеж стало находиться в вечном подчинении Майды — на самом деле, почему она не может сама, без указаний Майды хозяйствовать в доме? Чем она хуже женщин других домов, которые сами, без опеки посторонних, справляются с хозяйством? Конечно, Дярикта искала свободы. Попытался Пиапон представить себя на месте жены, но тут же отмахнулся от этой, как ему показалось, нелепой мысли; он мужчина, он хозяин над своей семьей, хотя и живет в большом доме, а главное, он имеет свою острогу, ружье, самострелы, собак и потому в любое время может стать самостоятельным охотником. Может, это раньше одним копьем не мог охотник прокормить семью, а теперь, когда у него есть ружье и боеприпасы, он один может добыть все необходимое своей семье без помощи сородичей, без большого дома.
Так думал Пиапон, но когда вспомнил о пустом амбаре, то понял беспокойство женщин: они намного хозяйственнее мужчин, они сердцем почуяли грядущую беду, ожидавший их голод во время таяния снегов и вскрытия рек. В этом отношении они походили на тех островных зайцев, которые, заранее почуяв наводнение, мечутся и с тоской смотрят на зеленеющие вдали сопки.
— Надо больше заготовить юколы, — сказал вслух Пиапон и сердито добавил: — Нечего зря ездить по всему Амуру.
Приняв решение, он еще усидчивее, проворнее продолжал ремонтировать невод. К возвращению Баосы эта работа была закончена, и Пиапон принялся конопатить большой неводник.
— Дядя, дядя, дедушка возвращается, — сообщил Ойта.
Снизу подходила лодка. Пиапон отложил работу и долго из-под ладони рассматривал сидевших в лодке.
«Какую новость везет отец? Разыскал ли беглецов, напал ли на их след?» — гадал он, но, не заметив в лодке посторонних, вздохнул свободно и облегченно.
Баоса вернулся утомленный, молчаливый. Пиапон сразу заметил, как осунулся отец, постарел. Войдя в дом, старик поклонился центральному столбу фанзы, перецеловал внучат, потом взобрался на нары, поджал под себя ноги. Майда подала трубку. После еды старик вышел на улицу, и тут Пиапон отчитался о проделанной работе, спросил о поездке.
— Съездили, ничего, — ответил Баоса.
— На след хоть напали?
— Они не косули, а мы не охотники. Зачем нам след разыскивать! — твердо ответил Баоса.
Больше он ничего не добавил и только разжег у Пиапона любопытство. Рассказал о поездке в Хулусэн Калпе.
— Больше не будем их разыскивать, — сказал он в конце рассказа, откровенно радуясь концу бесцельных поездок.
— Расспрашивали людей? Никто не встречал их? — полюбопытствовал Пиапон, тоже радуясь вместе с братом.
— Как в воду канули! Никто ничего не знает.
— Что случилось? Может, они погибли? — встревожился Пиапон.
— Тогда нашли бы их вещи, лодку. Пота не пропадет! Где, интересно, он все же спрятался?
— Видно, по протокам все же вверх подался, где-нибудь теперь в Найхине или в Толгоне находится.
Калпе с Улуской помогали Пиапону конопатить неводник. Улуска после побега Поты совсем притих, старался лишний раз не попадаться на глаза главе большого дома и имел такой униженный, забитый вид, что невольно вызывал жалость Пиапона. Иногда Пиапону хотелось подойти к нему, подбодрить, сказать, чтобы он держал себя в руках, пообещать ему поддержку, если начнутся против него какие козни, но он не подходил и не говорил подбадривающих слов, потому что знал: никакие слова не поднимут дух Улуски — слишком он уж слабохарактерен. Кончился мох, которым конопатили неводник. Пиапон поднялся домой и, собирай мох в подол халата, услышал шум, крик и плач в доме. Вытряхнув с подола мох, он вошел в фанзу и столкнулся в дверях с разъяренным Полокто. Возле очага рыдала Майда, обнимая ее, ревел младший сын. Баоса сидел на своем место, он походил на заснувшего на суку дерева коршуна.
— Ты дома находился, за всем должен был следить! — закричал в лицо брата Полокто. — Не видел, как эти суки грызутся между собой? Чего они не поделили, чего дерутся?
— Чего ты у меня спрашиваешь? Почему я должен знать?
— Как почему? Ты же здесь один оставался, ты за все должен отвечать!
— До женщин мне дола нет.
— Вот как?! Жена твоя склоку разводит, а тебе дела нет!
— Не кричи, детей не пугай.
Но Полокто уже нельзя было остановить, у него забурлил, закипел неуемный дух Баосы, он должен был на ком-то выместить злость. Он кричал, брызгал слюной, его бесило спокойствие, сдержанность брата, и он, распалившись, толкнул Пиапона и ударил в грудь. Пиапон покачнулся, пятясь, споткнулся и упал на спину. У него потемнело в глазах от обиды. Поднявшись, он размахнулся и хотел ударить брата в грудь, но нечаянно угодил в лицо. У того из носа потекла кровь. Пиапон опустил руки и с ужасом посмотрел на дело своих рук, растерянно оглядываясь, будто спрашивая: «Неужели это я ударил? Это я — младший брат — посмел ударить старшего в лицо? И кого? Старшего брата!»
Полокто вытер рукавом кровь и неожиданно с кошачьим проворством прыгнул на нары, рванул со стены ружье. Пиапон стоял на середине фанзы и не шевелился, глядя на брата. Дети, до смерти напуганные дракой родителей, ревели в полный голос, женщины подняли оглушительный визг. Полокто выхватил из ящичка патрон, и в это время на него прыгнул Баоса, ловким ударом выбил из рук ружье и вторым ударом свалил сына.
— Собачий сын! — прохрипел старик. — В фанзе нашел зверя. В кого собрался стрелять?! Мало в тайге зверей, иди и стреляй там, — он пнул лежавшего в ногах Полокто. — Собачий сын, на кого ты злишься?! На меня, на братьев?!
Полокто лежал вниз лицом, разбитый нос кровенил подушку, плечи тряслись в беззвучном рыдании. Как он ни был взбешен, он не смел поднять на отца руку и вынужден был сносить все его удары, ругань.
Расстроенный Пиапон вышел на улицу, вымыл лицо и руки, набрал в подол халата моху и зашагал к ожидавшим его Дяпе и Улуске. «Оказывается, он серьезно намеревался стрелять, — думал он. — Но ведь, я нечаянно...»
Когда, закончив работу, он вернулся домой, отец, нахохлившись, сидел на прежнем месте, Полокто лежал на постели с младшим сыном и что-то рассказывал ему. Женщины суетились у очага, готовили ужин. Пиапон взобрался на нары и лег рядом с игравшими в акоан дочерьми. Он видел, как Полокто, взяв Дяпу за руку, вышел с ним на улицу. Немного погодя зашел один Полокто, сел на краю нар и закурил. Потом зашел Дяпа, он перелил принесенную водку в медный кувшинчик и начал се разогревать. Пиапон понял — Полокто будет просить у него прощения, но так как он старший, то ему не положено по закону становиться на колени перед младшим, и потому он упросил младшего брата просить извинения за себя.
«Выходит, все же он виноват, — подумал Пиапон. — Да, он виноват, он меня первый ударил, он хотел меня застрелить».
Дяпа подошел к Пиапону, налил в чарочку водки и протянул брату.
— Ага, садись, выслушай меня, — сказал он.
Пиапон сел.
— Ага, выпей эту чарочку водки.
— По какому случаю пить? Почему ты мне первому преподносишь? В этом доме есть еще отец, есть люди старше меня.
— Ага, не сердись, сегодня случилось... неразумное... — Дяпа замолчал, подыскивая слова, он никогда не отличался красноречием, а теперь в роли мирового и подавно не находил слов.
«Трудно за другого прощения просить», — подумал Пиапон.
— Одним словом, отец и старший брат просят извинения за сегодняшнее, — закончил Дяпа.
— Почему отец просит прощения?
— Он не просит... он просит, чтобы ты извинил старшего брата.
— Скажи отцу, я не могу извинить старшого брата, — неожиданно для самого себя ответил Пиапон и подумал: «Придется упрямиться».
Дяпа растерянно замолчал, он не знал, что ему дальше предпринять.
— Старший брат искренне извиняется, он считает себя виновным, он же горячий, потому погорячился...
— Пусть идет остудится в воде, теперь вода уже прохладна.
Полокто, сидевший в двух шагах от брата, ниже опустил голову. Баоса недовольно поморщился. Все поняли, что Пиапон не простит старшего брата. Женщины притихли у очага, мужчины, каждый по-своему воспринимавшие дневную драку и имевшие свои суждения, выжидательно молчали. Да и говорить они не имели права, мог говорить только доверенный Дяпа. В фанзе нависла неловкая тишина.
— Что же ты, отец Миры, — нарушил тишину голос Баосы. — Ты хочешь, чтобы я сам стал на колени и просил извинения?
— Нет, я этого но хочу, отец. Ты здесь ни при чем, зачем тебе становиться на колени?
И опять все по-своему растолковали дерзкий ответ Пиапона. Им показалось, что Пиапон, вопреки законам, требует, чтобы человек, увидевший раньше него солнце, встал перед ним на колени. Полокто еще ниже опустил голову.
«Видно, на этот раз гладко не пройдет, — упрямо подумал Пиапон. — Хорошо, я нечаянно попал в лицо — виноват, если бы он не хватался за ружье, я сам бы просил прощения. Л теперь — нет, не прощу. Он первый ударил ни за что ни про что — не прощу, — думал Пиапон, все больше и больше распаляясь. — Молчать больше нельзя, надо брать пример с Митропана, он ни отцу, ни соседям-старикам не дает себя оскорбить. Будь что будет — посмотрю».
Дяпа растерянно топтался на месте, беспомощно озираясь на отца, на старшего брата.
— Чего стоишь?! — прикрикнул на него Полокто. — Не хочет прощать — но надо, будет унижаться!
Дяпа отошел от Пиапона. Все молчали. В фанзе только гудели комары, пробившиеся в оконные щели и в открытую дверь, в котле сердито булькал наваристый суп, под нарами скулили несмышленыши щенята. Тишина была такая, какая бывает перед грозой. Но гроза не грянула, не полил освежающий дождь, и не повеяло послегрозовой свежестью.
Сварился ужин, мужчинам, сидевшим на своих нарах за низенькими столиками, подали суп из ароматной полыни. После еды ложились спать без суеты, шума, дети и те ложились без уговоров матерей; свернувшись клубочками, как щенята, спрятав головки под одеяла, они затихли. Пиапон прижал к груди младшую дочурку Миру, поцеловал ее в щеки.
— Папа, тебе больно? — шепотом спросила девочка.
— Нет, отчего же больно будет?
— Тебя же отец Ойты бил... я так боялась... закрыла глаза.
— Ничего, больше такого не будет. Спи.
Легла Дярикта, подперла ребрами спину Пиапона — она всегда спит на спине. Пиапон тоже лег на спину. Дярикта погладила шершавой ладонью его голую руку — от нее приятно пахло полынью.
Жена. Что знал Пиапон о своей жене, хотя прожил с ней немало, нарожал кучу детей? На самом деле, что он знал? Только в первый год после женитьбы он как-то еще ласкал ее, но при этом видел перед собой не Дярикту, ему мерещилось, что он ласкает, обнимает свою любимую Бодери. Потом привык к жене, как привыкают к новому халату, к новой оморочке, к новому ружью. Он редко разговаривал с ней, да и повода для разговора не находил, на ее ласки отвечал сдержанной лаской, и, кажется, она оставалась довольна им. Дярикта, как вторая работящая женщина в большом доме, справлялась со всем хозяйством, и ею были довольны. Пиапон тоже не мог ее ни в чем упрекнуть, он сам и все дети были одеты во все целое, не дырявое, что уже само собой говорило о прилежности, внимательности жены; ему приходилось только предупреждать ее, просить, чтобы не распускала язык, чтобы была посдержанней и не ссорилась с другими женщинами. Теперь, вспоминая эти короткие беседы, Пиапон понял — ему надо быть жестче, требовательнее, не спускать ей ни одного скандала, лучше бы он лишний раз наказал Дярикту, чем ударить, хотя бы и нечаянно, старшего брата в лицо.
Большой дом не спал, с правой стороны Пиапона ворочался Ойта, а дальше него шептались его родители, с левого бока ворковали Дяпа с Исоакой, Улуска с Агоакой — молодые, да и долго не обнимались, как же не ворковать им! Полокто с женой тоже заворковали.
«Плохо, очень плохо, когда много взрослых мужчин и женщин спят на одних нарах», — подумал Пиапон.
На следующий день в полдень отец вызвал Пиапона в фанзу. Здесь уже были в сборе все мужчины большого дома, кроме Улуски, которого Баоса не причислял к своему роду и потому не приглашал на совет мужчин. Пиапон заметил покрасневшее лицо Полокто: значит, ему досталось от отца, он уломан и готов идти на примирение на любых условиях. Пиапон знал — его тоже будут уговаривать на совете всем домом, и ему вдруг пришла озорная мысль: «Упрямиться так упрямиться, приглашу-ка Улуску на совет. Все равно это последний совет».
— Вижу, совет мужчин собрался? — спросил он отца. — До вчерашнего дня я был де могдани, и меня первым приглашали на совет, теперь, видно, кто-то другой им стал.
— Не обижайся, — примирительно сказал отец. — Ты был де могдани и им остался.
— Почему нет Улуски? Он ушел от нас?
— Когда на совет Заксоров приглашали Киле? Ты что это вздумал? — уже громче, нетерпеливее спросил Баоса.
— Меня не касается, Киле он или Заксор, он живет в нашем доме, мы едим то, что он добывает на рыбалке или на охоте. Калпе, позови Улуску.
— Почему ты здесь распоряжаешься? — гневно спросил Баоса. — Ты меня за мертвеца считаешь?
— Ты здесь главный, отец, но я тоже не последний, хотя меня бьют в этом доме, как последнюю женщину или собаку. Я хочу справедливости.
Улуска неуверенными шажками подошел к нарам, сел за спиной Дяпы и примолк, как спрятавшаяся в густоте кедрача белка.
— В нашем дружном большом доме поселилась вражда, — неохотно начал Баоса. — Никогда не было такого раньше, чтобы брат на брата бросился, чтобы за ружья хватались. Я спрашиваю, что происходит в нашем доме?
«Большой дом разваливается», — мысленно ответил Пиапон.
— Во вчерашней драке виноват Полокто, он без причины избил жену, набросился, точно медведь-шатун, на брата. Он виноват и пусть сам на совете мужчин просит прощения — примирения.
— Пусть все женщины и дети выйдут из фанзы, — попросил Полокто охрипшим, точно простуженным голосом.
— Они не мешают нам, — возразил Пиапон.
Полокто побледнел, но больше не промолвил ни слова. Баоса искоса, испытующе взглянул на Пиапона и, увидев на его лице решимость, не стал возражать. По его знаку Дяпа принес вчерашнюю водку в медном кувшинчике и подал Полокто, тот налил водку в чарочку, встал на колени и дрожащим голосом проговорил:
— Пиапон, брат мой, смягчи свое сердце. Мы с тобой росли вместе в этом доме, часто ссорились, дрались в детстве, но не проходило и полдня, как мы мирились и были в дружбе до следующей ссоры. С тех пор как мы стали охотниками, купили жен и заимели детей, мы с тобой никогда больше не дрались. Верно я говорю? — Он не дождался ответа Пиапона и продолжал: — Смягчи свое сердце, я ведь твой родной старший брат. Выпей эту чарочку, видишь, я стою перед тобой на коленях.
— Тебя отец заставил встать на колени, — ответил Пиапон. — Ты просишь прощения, а глаза твои злые. Неправдивы твои слова.
Полокто, точно избитый, оплеванный, медленно сел на пятки, он весь вспотел, будто только что вылез из воды. От острого глаза Пиапона ничего не ускользнуло, он заметил испуганные глаза младших братьев, втянутую в плечи голову Улуски, бледность, покрывшую лицо отца, и только на старшего брата он не взглянул. Полокто расплескал водку, поставил чарочку на циновку и уперся руками в нары — он пытался скрыть от глаз братьев дрожь в руках.
Пиапон понял — он теперь верховодит на совете, значит, ему легче будет добиться своего.
Баоса молча слушал Пиапона и ждал момента, чтобы своей властью главы большого дома, отца поссорившихся, одним решительным словом прекратить затянувшиеся уговоры и примирить братьев. Он не догадывался о намерениях Пиапона, думал, что разгневанный де могдани ломается и набивает себе цену, он даже не мог предугадать истинных стремлений второго сына. А Пиапон, всегда спокойный, уравновешенный Пиапон, распалялся все больше и больше. Никогда он не говорил так много и так быстро — откуда только брались эти разящие, полные сарказма слова, градом сыпавшиеся на поверженного Полокто.
— Ты сегодня разговорился, отец Миры, — скрывая недовольство, проговорил Баоса. — Ты вчера наказал старшего брата, кровь из носу пустил, сегодня словами добил его. Хватит, остановись, сын. Ты всегда был твердым, как тот камень, из которого делают пиапон, с малых лет был такой, потому тебя и назвали так.
Пиапон удивился, услышав спокойную, рассудительную речь отца.
«Не понял ничего», — подумал он.
— Но и камни могут источать слезу, — продолжал Баоса. — Хватит, сын, пожалей старшего брата, помирись.
— Не буду я с ним мириться в этом доме, — наконец высказал Пиапон заранее заготовленные слова.
— Где же тогда мириться собираешься?
«Эх, все еще ничего не понимаешь, отец!» — с горечью подумал Пиапон.
— В этом доме поссорились, здесь надо мириться. Большой дом...
— С этого дня нет большого дома!
Баоса изумленно уставился на сына и заморгал часто-часто, чего никогда с ним не случалось, и будь это при других обстоятельствах, Пиапон не выдержал бы и рассмеялся — уж очень был смешон отец. Полокто наконец тоже поднял голову.
— Как же нет большого дома? — хрипло переспросил Баоса.
— Нет его! Законы дома нарушены, нет законов — пет дома. Когда это на совет Заксоров приглашали Киле, хотя он и «вошедший»? Когда это старший брат перед младшим становился на колени? Видишь теперь, как нарушены древние законы? — Пиапон кричал, впервые в жизни он повысил голос на отца. — Да дело даже не в законах — я выхожу из большого дома! Не хочу я больше, чтобы меня били, чтобы кричали на меня и на моих детей и жену!
Баоса ударил о нары трубкой, разломал ее и вскочил на ноги — это был прежний крикун Баоса!
— Пока я живой, пока я дышу, большой дом будет стоять! — закричал он.
— Я его не ломаю, пусть стоит.
— Нет, ты никуда не выйдешь, я тебе не разрешаю, слышишь? Я, твой отец, породивший, вскормивший тебя отец, но разрешаю выходить!
Баоса, прежний крикун-старик, топал в бешенстве ногами о скрипучие доски нар и с пеной у рта кричал. И чем больше распалялся отец, тем спокойнее становился Пиапон, — он сделал свое дело, теперь ему надо трезво продумать дальнейшие шаги.
Пиапон — круглое точило.
— Отец, я виноват, очень виноват, потому тоже не могу остаться в большом доме, — неожиданно для всех заявил Полокто.
— Что?! Ты тоже выходишь?! Ах вы, собачьи дети, покидать меня! — Баоса совсем потерял голову, он подбежал к Полокто, пнул его в бок, потом ударил кулаком Пиапона по спине. — Бросаете?! Бросаете старого отца? Зря я вас кормил, зря поил, надо было вас в детстве, как ненужных слепых щенят, утопить в проруби. Кормил их, растил, думал в старости без нужды прожить, думал, они будут меня кормить. Собачьи дети вы, нет у вас сердца, нет у вас жалости к старому отцу! Ну, уходите, уходите из большого дома!
Баоса подбежал к нарам Полокто, схватил свернутую постель, одеяла, подушки и бросил на пыльный оплеванный пол. За вещами Полокто на пол полетели спальные принадлежности Пиапона.
— Уходите! Уходите из моего дома, заберите постели, одежду свою, больше вы ничего не получите. Посмотрю я, чем вы кету будете ловить без невода и лодок, чем вы будете зимой охотиться без снаряжения! Уходите, ну, уходите, я сыт уже добытыми вами мясом и рыбой, зубы искрошил, прожевывая их, — так вы меня кормили. Спасибо!..
Пиапон вышел из фанзы и долго еще слышал крик разъяренного отца.
«Все, большой дом распался, — подумал он. — Ничего, отец, проживем, ружье есть — не помрем. Живут люди, и мы проживем, вон Митропан отдельно от отца живет, без его указаний обходится. Кормить тебя будем, пройдет немного времени, и ты успокоишься. Эх, начнем самостоятельную жизнь. Завтра с утра начнем строить фанзу. Нет, фанзу долго строить, выкопаем землянку. Только вот где ее поставить?»
Пиапон зашагал по стойбищу, выискивая удобное место для жилья. Его догнал Калпе и передал слова отца: тот просил его вернуться в дом.
— Скажи отцу, я ищу место, где бы поставить жилище. Если он не будет возражать, я бы вырыл землянку рядом с большим домом, чтобы ему близко было к нам в гости ходить, да и внучатам к нему бегать.
Пиапон зашагал на нижний конец стойбища. Когда на душу тяжелым грузом ложатся всякие неприятности, то лучше всего идти или плыть по Амуру, бурное его течение обязательно подхватит твой неприятный груз, отнимет и унесет прочь: честным людям Амур очищает души от всего наносного, вредного.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В одно прохладное туманное утро жители стойбища Полокан погрузили в лодки детей, тощих облезлых собак, короткие кетовые невода и с шумом, с радостным возбуждением, визгом ребятишек, под тявканье щенят и лай собак покинули свои фанзы и землянки.
Пота и Идари провожали Токто с его женами, и им казалось, что не люди отчаливают от берега, а большая стая гогочущих гусей покидает ночлег. Неводники давно уже скрылись за кривуном, а в ушах все еще звенели голоса.
Пота тоскливо смотрел вслед лодкам и завидовал рыбакам, детям и даже собакам: они уезжали на осенний праздник. Пота вспоминал широкие песчаные косы с десятками берестяных юрт, с барахтавшимися на горячем песке мальчишками, с вешалами, наполненными красной юколой, и с невыветривающимся запахом рыбы. По вечерам мужчины и юноши, стряхнув с плеч усталость, до изнеможения боролись на песке. Сколько было веселья на этих кетовых тонях!
А наутро, задолго до восхода солнца, рыбаки начинали лов и до вечера только и делали, что закидывали невода. Жены их тем временем пластали кетины на разные сорта юкол: верхний пласт с кожей — калтаян, два нижних, тонких, просвечивающих на солнце пласта — макори, отдельно — брюшко, янтарная икра, которая зимой считается деликатесом, если ее есть с желудем; оставшийся костяк — кисоакта — сушился для собак.
Днем бывают свободны от работы только дети да собаки; мальчишки бродят по релкам, собирают созревшие мягкие яблочки, шиповник, учатся подкрадываться к уткам, сидящим на озерах, и часто метким выстрелом из лука добывают мясо на суп. А собаки, располневшие в первые же дни путины на внутренностях кеты, лениво бродят по косе или отлеживаются в тени.
В сентябре в отдельные годы целыми днями идут дожди, дуют холодные низовики, портится без солнечного тепла юкола, но провожавшему Токто Поте вспоминались только солнечные, с бездонным голубым небом, с плывущими треугольными стаями веселых гусей. Если бы не было рядом любимой Идари, Пота, махнув на все, подался бы на Амур. Он но удержался бы. Идари сердцем понимала, что творилось в душе мужа, ей самой до боли в груди хотелось уехать на кетовую путину.
— Не грусти, он, — сказала она, опуская головку на его плечо. — Через год-два мы тоже поедем на Амур, тогда можно будет, к тому времени мама смягчит сердце отца, он простит нас.
В стойбище осталось несколько стариков и старух, среди них был и Чонгиаки Ходжер.
— Загрустил, охотник? — улыбнулся старик. — А чего же не поехал с Токто?
— Не взял он.
— Ну и хорошо, мы здесь не будет скучать, разве кто-нибудь в тайге скучал? Зверю и то весело в тайге, а человеку еще веселее.
И Пота на самом деле не грустил больше, перестал думать об Амуре, о кетовой путине, о веселье на песчаной косе. Вместе с женой он ловил рыбу, ходил на охоту, готовил дрова на зиму.
Тайга разукрасилась в свой осенний яркий наряд. Одинокая осинка в стойбище Полокан вся пожелтела, поникла, и некогда веселые ее подружки тоже загрустили. Пота с Идари по-прежнему часто ходили в гости к осинке, к березкам, но никогда не разделяли их грусть и даже не замечали их поникшего вида, потому что ничего не видели вокруг, кроме самих себя, — так была сильна их любовь.
С приходом осени тайга раскрывает свои богатства и каждого щедро одаряет, кто только осмелится и захочет их взять. Идари вспоминала сборы винограда, кишмиша, похожего на детские пальчики, лимонника, и ей захотелось сразу всего: и кисловатого винограда, и сладкого сочного кишмиша, и горьковатого, отдающего запахом хвои лимонника. Пота не возражал, за последнее время от стал угождать прихотям жены и радостно исполнял ее желания, потому что знал — этого требует его сын. Для сына и для жены он готов был достать что угодно.
Нанайка, не имеющая детей, часто зовет мужа в третьем лице — знать мужа по имени считается зазорным и не разрешается обычаем.
Закинув за плечо ружье и два больших берестяных туеска, он отправился в тайгу, порыскал там до вечера и ничего не нашел. А когда он спросил у старика Чонгиаки, где растут эти ягоды, тот почему-то насмешливо взглянул ему в глаза, но потом все же объяснил, где их можно найти.
Пота посадил в оморочку жену и съездил за ягодами. Спускаясь по реке в стойбище, он заметил на маленьком озерке стаю гусей, подкрался к ним и одним выстрелом уложил пять больших серых птиц.
— Зачем в гусей стреляешь, когда у тебя пороха совсем не осталось! — запротестовала Идари. — Чем зимой охотиться думаешь?
Пота улыбнулся, ему понравилось беспокойство жены.
— Ничего, как-нибудь обойдемся. Маленькие заряды буду делать. Смотри, какие гуси, тяжелые, жирные, разве можно на них жалеть порох? Эти пять гусей больше весят, чем самая крупная косуля.
Над ними как ветер проносились стаи уток, выше летели шумливые, неугомонные гуси. Пота любовался птицами, он никогда еще не видел их столько, птицы оглушали его криком, свистом крыльев.
— Ох, сколько уток здесь, как комаров на мари летом. Все летят на юг, спешат, скоро ни одной птицы не останется. Надо спешить. Завтра выедем вниз по реке.
— Что делать?
— Скопу надо добыть.
Переночевав ночь в стойбище, Пота выехал вниз по Харпи. Два дня он ездил по заливам, по кривым речушкам и только на третий день встретил рыбачившую скопу. Птица кружилась над заливом, часто залетала к устью реки, по которой плыл Пота, замирала на месте, трепеща крыльями и вновь отлетала на середину залива. Пота оставил оморочку, подкрался к устью реки и спрятался в тальниках. Скопа долго кружилась над водой, несколько раз замирала в воздухе, поджидая удобный момент для нападения, и тогда Пота просил всех духов, чтобы они отпугнули рыбу, потому что если птица добудет рыбу, то сразу улетит в лес и там на дереве съест добычу. Насытившись, она не скоро вернется в залив. Скопа, будто повинуясь мольбам юноши, часто подлетала к устью реки. Пота поднимал ружье и ждал, когда она бросится на добычу, чтобы выстрелить в тот момент, когда она распластается на воде с добычей в когтях. Раз скопа подлетела совсем близко и внезапно замерла в воздухе, затрепетала крыльями над самым диском красноватого солнца, потом опустилась ниже, в центр диска, вся озарилась золотым светом, и Поте стало казаться, что солнце затрепетало в небе. Пока он любовался, скопа камнем бросилась вниз, распласталась на мгновение на воде, взмахнула сильными крыльями, но не смогла подняться в небо, и так с распластанными крыльями внезапно исчезла под водой. Над водой возник бурун, и Пота заметил черный хвост огромного сома.
— Моя была скопа, — пробормотал он и тут же испуганно замолк. Внезапно ему пришло на ум, что в необычной смерти птицы есть тайный смысл — добрый сэвэн оградил его от неприятностей или от несчастья, и ему но стоит сожалеть об исчезнувшей скопе.
«Добрый сэвэн не хочет, чтобы мой сын был остроглазым, как скопа, — думал Пота, возвращаясь в стойбище. — Рассказывали же, как в старое время такой остроглазый охотник однажды увидел на дне глубокого озера Хозяина озера. Хозяин никогда не показывался людям на глаза, и за то, что остроглазый охотник увидел его на дне озера, он убил остроглазого. Добрый сэвэн, спасибо тебе, я больше не буду охотиться за скопой, не накормлю жену глазами этой птицы».
Пота вернулся в стойбище и опять принялся заготовлять дрова. Чонгиаки при встрече искоса поглядывал на него и однажды, когда Пота нес в фанзу ведро с водой, он подозвал его к себе и строго спросил:
— Ты охотник?
— Охотник.
— Нет, ты не охотник! Какой охотник воду носит, дрова колет, когда дома здоровая жена? Ты баба! Ты уронил честь охотника. Уже почти полмесяца прошло, как наши уехали на Амур, что за это время сделал? Молчишь. За виноградом ездил, дрова готовил, воду носил...
«Чего он раскричался на меня? Что я, сын ему, что ли? На сына бы кричал», — подумал Пота, но возразить не посмел: нельзя возражать старшим.
— Ты не гордишься охотничьим именем, своими неразумными поступками ты пятнаешь честь охотника. Для чего тебя оставил Токто? Разве не для того, чтобы ты мясо готовил? А ты даже к таежному голосу не прислушиваешься, не знаешь, что наступило время любви лосей. Мне рев быков ночами спать не дает, а ты спишь в объятиях жены, как бурундук зимой, — ничего не слышишь, да и слышать не хочешь.
— Дака, я жене помогаю...
— Сама она все сделает, твое дело мясо, рыбу, пушнину добывать! — рассердился старик. — Ты приехал на новое место, почему не знакомишься с ним? Все уже знаешь?
Пота благоразумно молчал. «Пусть кричит, — думал он, — покричит-покричит да перестанет. Не его дело, как я живу, только Токто может меня понукать».
Чонгиаки вытащил из-за пазухи трубку, свернул из листового табака цигарку, вставил в трубку и закурил. Сизый дымок пополз над травой, поднялся к кустам и растаял в воздухе.
— Смотрю я на тебя, ты не так живешь, как подобает охотнику, — продолжал Чонгиаки уже без раздражения. — Вижу, и все видят, как ты любишь жену, но нельзя так любоваться, вы же боитесь друг от друга отойти — это грех, это большой грех. Так говорили мудрецы. Вы льнете друг к другу, значит, невольно предугадываете скорую разлуку, кто-то из вас скоро умрет.
Пота вскинул голову, с ненавистью посмотрел на старика.
— Не злись, Пота, — прямо глядя на юношу, продолжал старик. — Я обязан тебя предупредить, я прожил долго, много видел, много знаю. Сейчас рядом нет Токто, нет отца — кто же будет тебя уму-разуму учить? Я обязан тебя поучать, иначе беды тебе не избежать, а она тебя ждет.
Озлобленный Пота, до сих пор пропускавший мимо ушей слова Чонгиаки, насторожился.
— Ты шаман? — опросил он насмешливо.
— Нет, я не шаман, я друг твоего отца.
У Поты медленно погасла на лице улыбка.
— Мы с твоим отцом друзьями были в молодости, в китайский город Саньсин раз ездили. Подружились...
— Ты, дака, за другого меня принимаешь.
— Не думай, что хэвэнские глупые люди. Только молодых вы с Токто могли обмануть, а старики все сразу догадались, в чем дело. Токто думает, будто мы не знаем, почему он сам на Харпи живет. Пусть думает. Я как увидел тебя и подумал — знакомое лицо. А когда Токто стал небылицу рассказывать, я вспомнил лицо твоего отца. Теперь, когда нагляделся, как ты любуешься женой, все понял.
Пота боялся поднять голову, встретиться с глазами старика.
«Если он догадался и догадались все старики Полокана, то молодые тоже узнали, в чем дело, и теперь на Амуре рассказывают обо мне. Что же делать? Кончится путина, и Баоса нагрянет сюда, отберет Идари, убьет меня. Что же делать? Куда еще бежать?»
— Отец твой — Ганга Киле, — сурово продолжал Чонгиаки, не догадываясь, как мечутся мысли у юного собеседника, — когда в последний раз я был в Нярги, ты только встал на ноги, цеплялся за хвост собаки. Отец твой — мой хороший друг, щедрый, душевный человек, душа у него широкая, как Амур. Вижу, тебе не хочется вспоминать отца. Ладно, не буду про него говорить. Чью дочь ты утащил?
— Заксора Баосы.
— Баосы? Знаю его, не попадись, сынок, ему, он жалости не знает. Может, к старости утихомирился. Как человек он хороший, но если разозлится — не подходи лучше.
Чонгиаки выкурил трубку, выбил остаток пепла, продул и спрятал трубку за пазуху.
— Охотиться начнем, — сказал он, поднимаясь, — собирайся, завтра выедем.
Пота передал Идари разговор с Чонгиаки и совсем расстроил ее. На следующий день он оставил ее одну в пустой фанзе и уехал.
Приехав на место охоты, Чонгиаки долго молился Хозяину реки, задабривал водкой и просил, чтобы Хозяин не посчитал его за обманщика, если он попользуется берестяной трубкой.
— Пожалей меня, подгони на мой зов какого-нибудь глупого, ненужного тебе лося, — просил старик.
Он трубил на вечерней зорьке, ночью и только утром дождался ответа. Днем Пота коптил мясо. Чонгиаки сидел рядом и делился с молодым охотником разными охотничьими премудростями. Много он рассказывал о добром Хозяине Харпи, который якобы всегда помогает охотникам и никогда не жалеет ни лося, ни жирных карасей, ни изюбрей, ни косуль.
— Есть еще другая река, Симин называется, — рассказывал старик. — Туда сейчас, наверно, отправились охотники из других стойбищ, каждую осень они туда ездят, там они копьем бьют переплывающих реку лосей, косуль, изюбрей. Много бьют, за ночь один человек с десяток зверей колет. Звериная тропа там лежит. Ты не думай, будто звери не имеют своих троп, все живое на земле имеет их, даже вон гуси и утки и те имеют свою дорогу. Да, я тебе про Симин хотел рассказать. Слушай внимательно, все запоминай, но если когда попадешь на эту реку, забудь все, что услышишь сейчас. Хозяин Симина человечьи мысли читает. Всегда с почтением относись к нему, иначе тебе худо будет, голодом заморит тебя. Как только въедешь в устье Симина, поклонись Хозяину, задабривай его, понравишься — пожалеет, даст, что тебе требуется, но если не понравишься — лучше поворачивай оморочку назад и быстрее уезжай оттуда. Строгий Хозяин, ох строгий! Наш, из рода Ходжер он, но мы тоже все его боимся. Есть только один охотник, который не боится его, никогда не кланяется и только покрикивает да помыкает им. А Хозяин Симина боится его, все просьбы выполняет. Этот охотник из вашего рода — Киле Кусун сильный человек, а охотник — нам всем вместе далеко до него. Его одного я знаю, который верх взял над Хозяином Симина. Я тебе расскажу, как появился этот Хозяин, но ты только запомни: как въедешь в Симин, так сразу забывай, немедленно забывай, что ты услышишь сейчас.
«Как так немедленно забыть? — недоумевал Пота. — Наоборот, когда что-то хочешь забыть, всегда оно накрепко уцепится в памяти, так зацепится, что и ногтями не выдерешь».
— Говорят, это случилось недавно, отцы наших отцов слышали от старших. — Чонгиаки удобнее пристроился, готовясь к длинному повествованию. — Говорят, выдался голодный-преголодный год, уж мы сами-то знаем голодные годы, а тогда было совсем худо — на Амуре рыбы не стало, в тайге зверей след исчез — великий мор пришел на нашу землю. Люди съели весь запас съестного, кору деревьев обглодали, халаты, обувь из рыбьей кожи съели и стали умирать от голода. Ох, сколько людей умерло тогда — не счесть! В древние времена на Амуре знаешь сколько было людей? Откуда тебе знать, ты легенду не слышал. Когда люди на рыбалку выезжали, Амур из берегов выходил, понял? Вот сколько было лодок. Голод тот погубил нанай. Сейчас везде встречаются песчаные косы, высокие релки — это все сусу, сколько там находишь всяких целехоньких вещей! Если бы это было кладбище, то разве нашел бы ты целые вещи: при похоронах все бьют, все ломают. Голод был, великий мор. Вот тогда наш старик Ходжер сложил самое необходимое на нарту, забрал жену, одного или двух детей — одни говорят, один ребенок был, другие — два, но это неважно, все равно, сколько бы их ни было — все погибли по дороге. До Симина добрались только старик со старухой. Добрались они до реки и от голода шевелиться уже не могут. Видит старик — на деревьях, точно вороньи гнезда, чернеют жирные тетерева и, словно узоры на халате его жены, на снегу следы зайцев, лисиц, енотов. Было много птиц и зверей, будто со всего Амура они сбежались на Симин. Но старик так обессилел, что только мыслями да глазами ловил птиц и зверей и мысленно ел. То ли вид птиц и зверей подбодрил его, то ли, мысленно наевшись, нашел силы старик, выполз на лед реки, взглянул под лед и задрожал от еще большой радости — жирные, ленивые караси, крупные, как сазаны, чернели под ним. Старик долго долбил лед, выдолбил лунку и острогой добыл несколько карасей. Тут же на льду сделал талу, съел и почувствовал себя опять бодрым и сильным. Накормил старуху — та тоже почувствовала себя сильной. С этого дня они зажили сытно, не думая о завтрашнем дне. Старик наловил столько карасей, что они на льду возвышались, как средней высоты сопка. Наловил и наморозил полные амбары тетеревов, зайцев, енотов. Старик, говорят, в жизни был скуповат, лишнего куска юколы не подаст, а тут после смертельного голода еще стал жаднее. Жадность заставила наловить горы карасей. Построили они со старушкой фанзу — надо замазать ее стены, но где глину добыть зимой? А старушка каждый день готовила из внутренностей карасей енгдэку, это вы, амурские, так называете, а мы, хэвэнские, — лунгчен. Много лунгчена приготовила старуха и стала замазывать стены — как глиной замазала. Тепло стало в фанзе, хорошо. Но тут пришла беда. Однажды выходит старик на улицу и видит — пар поднимается из речки. Пригляделся — нет горы карасей, на их месте образовалась полынья, и оттуда пар клубится. Огляделся старик вокруг — даже вороны и те исчезли. Понял он — пришла новая беда, эндури наказал его за жадность. Из амбара его исчезли птицы, звери — эндури оживил их и угнал. Старик со старухой опять начали голодать, стены колупают — лунгчен едят. До весны не дожили. Померли. И с того времени этот старик стал Хозяином Симина. Скупо, очень скупо он отдает охотникам своих собак — лосей, косуль, изюбрей. Другие думают — он Ходжерам, своим родственникам, сам подгоняет зверей, на их самострелы гонит лисиц и колонков. Не знаю, может, кому он и подгоняет, но мне не подгонял. Сегодня я стрелял в лося, сколько шагов было?
Сусу — место погребения целого стойбища. Заброшенное место.
Енгдэку — блюдо, приготовленное из внутренностей карасей.
— Шагов пятьдесят было, — подумав, ответил Пота.
— Пятьдесят, говоришь, — Чонгиаки прикинул в уме. — Верно, было. А на Симине я стрелял на двадцать шагов в лося, будто без пули стрелял, холостым.
— Не попал?
— Ничего не было, лось посмотрел на меня и лениво ускакал.
— Может, пуля выпала?
— Не первый раз я заряжал тогда шомполку, пуля была. Хозяин отвел ее в сторону. В другой раз, это недавно было, только что купил тогда берданку, прицелился в лося — чак! — осечка, второй раз — опять осечка. Лось убежал. Ты думаешь, пистон отсырел? Не отсырел, это проделки Хозяина, говорю тебе, не захочет тебе отдать какого-нибудь зверя — ни за что не отдаст. Вернулся я тогда домой, сел возле своего дома, прицелился в ворону, а в берданке тот патрон, который дважды осечку дал. И что думаешь?
— Выстрелил?
— Выстрелил! Здесь, на Харпи, он не хозяин, не может запретить берданке выстрелить. Вместо лося на Симине — на Харпи ворону убил. Жалко патрон, знал бы, лучше в лося стрелял.
Пота не пропускал ни слова, чем больше Чонгиаки рассказывал про Хозяина Симина, тем жарче разгорался у него огонь любопытства, и к концу повествования он принял решение — во что бы то ни стало съездить на Симин и попытать счастья. Пота сам не понимал, почему его влекут всякого рода опасности, приключения. С детства не пропускал ни одного камлания шаманов, и как бы ему пи было страшно при изгнании чертей, что бы ни мерещилось от страха, он никогда не смыкал веки, не прятался под одеяло, как делали его сверстники. Однажды Пота просидел на улице возле дома, где камлал шаман, хотел увидеть, как черт будет убегать через окно, дверь или дымовое отверстие фанзы. Пота дрожал, от страха деревенели ноги, голова почему-то тряслась; чем громче кричали в фанзе, тем больше тряслась голова. Впоследствии он твердил, что не увидел черта только из-за этой тряски.
Теперь ему не давал покоя Хозяин Симина, он опутал его невидимыми веревками и неудержимо притягивал к себе. Два дня охотились Пота с Чонгиаки, а Хозяин Симина так и но отступал от него. Возвращались домой с полными оморочками мяса.
— Дака, поедем на Симин, — попросил Пота, уже подъезжая к стойбищу.
— Нет, не поеду, слишком много времени займет, — ответил Чонгиаки. — Зачем ехать? Мы мясо можем и здесь заготовить.
— Хоть до устья реки съездим.
— Что на устье делать? За лосями далеко подниматься, только в Сельгоне, в Кирпу можно встретить их, а подниматься туда два дня, не меньше. Не стоит ехать.
— До устья доедем, а там видно будет, — упрямился Пота.
— Не поеду, — наконец рассердился Чонгиаки. — Нечего там делать...
Но молодой охотник уже сам принял решение — он обязательно нынче же побывает на Симине.
Идари встречала мужа на берегу; ухватив за нос оморочку, подтянула ее на песок. Пота вышел из оморочки, обнял жену и прижался щеками к ее горячему лицу. Идари стыдливо чуть прикоснулась губами к щекам мужа и испуганно отстранилась. Она целовала мужа! Что она делает? Это же грех — целовать в щеки мужа, отца, мать и всех людей старше себя. Как это вышло?
Пота ничего не видел, кроме горячих глаз жены, не замечал поцелуя и охватившего ее испуга, он опять прижал к себе трепещущее юное тело, потом вдруг поднял на руки.
— Отпусти! Что ты делаешь? — зашептала испуганная насмерть Идари.
Старый Чонгиаки с помощью жены выгружал кренделя копченого мяса, в -берестяных матах лежало волокнистое, с белыми прожилками сала свежее мясо, а рядом белели трубочки розового костного мозга, куски печенки, почек. В другой плетеной корзине лежал вывернутый желудок, точно шапка из коричневого жесткого меха невиданного диковинного зверя.
— Мапа, смотри на этих молодых, — подтолкнула жена Чонгиаки. — Что они делают? Постеснялись бы людей. На Амуре все молодые такие, что ли? Все такие бессовестные?..
— Нет, не все. У этого молодого охотника отец с русскими сильно дружит, от них он все перенимает.
— Когда мы молодые были, стеснялись в глаза друг другу посмотреть.
— Они не по-нашему любят, — Чонгиаки разогнул спину, долго смотрел, как Идари брыкала ногами в руках мужа. — Крепко любят...
ГЛАВА ВТОРАЯ
После выхода из большого дома Пиапон поселился в фанзе Холгитона. Услышав о выходе Пиапона и Полокто, Холгитон возмутился и, как обычно, зашумел:
— Жена, Супчуки! Где мой знак старосты? — кричал он, хотя сам прекрасно знал, где находится большая бронзовая бляха, олицетворяющая его власть в Нярги; он хранил ее в небольшом сундучке, а сундучок покоился всегда под свернутой на день постелью. Последний раз Холгитон надевал бляху в приезд урядинка с попом, и с тех пор бляха неприкосновенно лежала на дне сундучка, завернутая в кусочек шелка.
— Подай мне мою бляху! Я пойду к Баосе, я ему скажу слово свое, я здесь старшинка, меня русские поставили, меня должны слушаться все. Как он может людей на улицу выгонять? Пусть выгоняет взрослых, но зачем детей выгонять!
— Не выгонял он нас, мы сами ушли, — успокаивал Пиапон расходившегося старосту, впервые так ретиво устремившегося проявить свои права.
— Нет, я ему скажу свое слово.
— Не ходи и бляху не цепляй, — повысил голос Пиапон. — Мы сами ушли, я тебя уверяю.
Холгитон будто ждал этого уверения, сразу успокоился и сел, поджав под себя ноги.
— Сам ушел, говоришь? Хе, ушел. А как ты до этого додумался? Надоело под властью отца быть или как? Он вас под ногтем держал, верно говорю?
Пиапон промолчал, ему не хотелось выкладывать душу разговорчивому и, как он знал, хвастливому Холгитону. Думал он о том, как быстрее выкопать себе землянку, покрыть ее, ведь надо спешить, вот-вот подойдет кета, уже поймали серебристого гонца.
— Скажу я, правильно ты сделал, что ушел из большого дома, — продолжал Холгитон. — Подумай только, ты самый лучший охотник в большом доме, а ел и одевался так же, как и все, дети твои одевались тоже не лучше других детей. Так нельзя — кто больше добывает, тот лучше должен жить. По-новому надо жить, как русские живут. Ничего, теперь другое дело, все, что добудешь, — все твое будет. Ты не горюй, я ведь живу один с женой, вон Ганга теперь остался один — живом, ничего. А посмотри, как живет твой приятель Митрофан в Малмыже, хорошо живет! У русских дети как женятся, так обзаводятся своим домом, хозяйством, — Холгитон усмехнулся. — Я про себя думаю: тебя Митрофан надоумил уходить из большого дома. Верно?
На следующий день с утра Пиапон начал копать землянку возле родного дома. Помогать ему вышли все мужчины стойбища — так уж ведется испокон веков, ни один нанай не останется в стороне, если его сородич принимается за тяжелую срочную работу, они бросают свои дела и спешат на помощь. С другой стороны большого дома копал землянку Полокто. Няргинцы разделились на две группы и помогали обоим братьям. Старшие охотники — Ганга, Гаодага, Холгитон — косили траву на покрытие землянок, молодежь копала землю, некоторые мужчины выехали на лодках на противоположный берег за лесом на столбы. Через три дня жилища обоих братьев были готовы. Пиапон и Полокто каждый в отдельности устроили угощение, позвали отца, хотя он и не показывался в эти дни, не помогал ни одному из сыновей. Баоса не пришел на угощение.
— Ну вот, ты теперь хозяйка своего дома, — сказал Пиапон жене, когда легли спать. — Не смей больше ругаться, если когда услышу, что ты была зачинщицей ссоры, — берегись, пощады не проси.
— Не буду ссориться, — прошептала Дярикта, обнимая мужа, и, помолчав, сказала: — Когда захочется ругаться, с детьми буду ругаться.
— Не смей зря на детей кричать.
— Тогда приведи мне хориан, с ней буду ссориться.
Пиапон отвернулся от жены, в этот радостный вечер ему не хотелось слушать глупые ее речи. Он лежал с открытыми глазами и думал о дальнейшей жизни. У него трое детей, жена — четыре рта, четыре желудка, требующие пищи, а он остался без единой сети, без невода, без охотничьих принадлежностей, выходит, все это он променял на землянку. Разве одной острогой добудешь много рыбы, одним ружьем — много соболей? Охотничьи принадлежности его не очень беспокоили, потому что у него в сундучке хранилось больше двадцати наконечников самострела, так что самострелы он мог приготовить. Но как ловить кету? Чем? Юкола — основная пища для людей, корм для собак. Есть у него собственный тэмчи — большая мешкообразная сеть, которой рыбачат вдвоем, но ею много не наловишь, да еще неизвестно, отдаст ее отец или нет. Тэмчи Пиапон сделал своими руками, но он лежит в амбаре большого дома, а все, что лежит там, принадлежит большому дому. Тэмчином ловят только дряхлые старики да семьи, не имеющие невода, а Пиапон не может последовать их примеру: ему надо много кеты, много юколы.
«Ничего не поделаешь, придется примкнуть к другим семьям, а может, к другому роду на паях, — решил Пиапон. — Был он в большом доме, не посмел бы примкнуть к чужому роду, а теперь — своя воля».
Хориан — в данном случае вторая жена мужа.
Потом ему ни с того ни с сего вспомнился Митрофан и его рассказы о далекой незнакомой России. Сколько раз Пиапон в бессонные ночи пытался представить себе бесконечное равнинное, сливающееся с горизонтом поле и не мог представить. Он сравнивал это поле с лугами, по вместо ровной голубой линии горизонта вырастали горбатые сопки, загораживая взор.
«А тот человек из легенды обязательно видел эти поля», — думал Пиапон.
В детстве он много раз слышал от бабушки легенду о смелом нанай, решившем посмотреть мир, добраться до края земли. В легенде рассказывалось, как шел он в сторону заката солнца, встречался с тунгусами, якутами, потом встречал носатых людей, которые не могли правым глазом посмотреть влево, а левым глазом — вправо, потому что высокие носы закрывали им взор. На этом месте рассказа бабушка непременно упоминала, что эти люди теперь сами явились на Амур. Смелый охотник вернулся в свое родное стойбище дряхлым стариком и, не успев сообщить сородичам о своем странствии, умер. И никто не слышал, дошел он до края земли или нет, поэтому нанай до сих пор не знают, где кончается земля.
Пиапон в детских мечтах добирался до края земли, но рассказать, как выглядит это место, он при всем желании но мог: конец земли ему представлялся то высоким утесом, то глубокой пропастью, то голубым бесконечным морем. Стаи взрослым, он много бродил по тайге, был на берегу моря, видел столько, сколько видели старшие. Там, где он прошел, лежала пустынная безлюдная тайга. Пиапон за всю жизнь побывал только в трех-четырех ближайших стойбищах и только во время поисков беглецов посетил другие дальние людские поселения. Эта первая длительная поездка открыла ему глаза на многие стороны жизни людей, заставила по-новому осмыслить жизнь большого дома. Пиапон сам себе не может ответить, решился бы он покинуть большой дом, если бы не посетил столько стойбищ, не пригляделся к жизни больших и малых домов, не наслушался разговоров мудрецов. Скорее всего сидел бы по-прежнему в Нярги, жил бы в большом доме как птенец в яйце.
— Свободный я теперь человек, — вслух проговорил он.
— Что? Что говоришь? — проснувшись, спросила Дярикта.
— Спи, говорю.
Закончив землянку, Пиапон начал строить амбар, для этого требовался лес, много жердей, и он потратил на его постройку несколько дней. В доме не осталось ни мясного, ни рыбного запаса пищи, и он выезжал по вечерам на охоту на перелетную дичь, добывал рыбу острогой, если попадались рыбаки с неводом, примыкал к ним. Так в хлопотах подошел сентябрь, а Пиапон все еще ни к одной семье не примкнул, не выпросил у отца тэмчи. Отца он видел только издали и но обмолвился словом, и Баоса тоже не заговорил с сыном. Полокто совсем не показывался на глаза Пиапону, он скрывался за большим домом, как за высокой сопкой.
По стойбищу прошел слух, что первые кетины начали попадаться на тонях Туссера, Мэнгэна. Няргинцы заторопились, поспешно складывали в лодки вещи, летние берестяные юрты, невода, и первые лодки покинули стойбище. Тогда только Баоса позвал к себе обоих блудных сыновей. Пиапон после ссоры впервые зашел в родной дом, сдержанно поздоровался и сел возле отца. Агоака подала брату трубку.
— Позвал ты меня? — спросил Пиапон отца.
— Поговорить позвал, — глухо ответил Баоса.
Открылась дверь, и в фанзу вбежал Полокто, он бросился на колени и подполз к нарам отца, вскочил на ноги и обнял отца, будто не виделся с ним годами. Баоса поцеловал его в щеки и посадил рядом. Пиапон не мог сдержать улыбки, глядя на это представление.
— Чем хотите кету ловить? — спросил Баоса тем же глухим, необычным для него голосом.
— Я хотел бы с тобой ловить, отец, — первым ответил Полокто.
— Я еще не подумал, — помедлив, проговорил Пиапон.
— С нами не хочешь рыбачить?
— Ты же говорил — не возьмешь, зачем навязываться?
— Умерь гордость, о детях подумай, что зимой они будут есть?
Пиапон благоразумно промолчал.
— Если хочешь, можешь, как и раньше, с нами рыбачить. На всех мужчин поровну будем делить добычу.
Баоса через силу промолвил последние слова, и каждое слово больно отдавалось в его сердце. Родные дети, его дети! И он должен с ними делиться, как с чужими людьми, людьми из другого рода. До чего дожил Баоса!
— А женщины как? Они же обрабатывать будут, — спросил Полокто.
— Свое они будут обрабатывать! Нет им пая! — прежним звонким срывающимся голосом крикнул Баоса.
Не понял старик мысли старшего сына. Полокто хотел предложить услуги своей жены большому дому, ведь у них четверо мужчин, а обработчиц всего две. Майда могла бы им помочь, конечно, за какой-то пай. Хотел еще спросить, дадут ли пай Ойте, мальчик уже вырос, может работать наравне со взрослыми, но, услышав накаленный звонкий голос отца, оробел.
— Если ты считаешь меня лишним, можешь это в глаза сказать, — высказался Пиапон. — Тогда я попросил бы тэмчи.
— Никого у меня лишнего не было никогда, — ответил Баоса. — Это вы считаете меня лишним, — он закашлялся. — Тэмчи твой, можешь забрать себе. — Старик помолчал недолго и спросил: — Как же думаете жить: косо глядя друг на друга или помиритесь?
— Я готов помириться, — поспешил с ответом Полокто.
— Нечего нам делить, — ответил Пиапон.
По фанзе будто прошелестел мягкий весенний ветерок — так вздохнули облегченно мужчины и женщины большого дома. Баоса ни одним движением не выдал свою радость.
«Помирились, хорошо, — подумал он, — вместе будем кету ловить, в одном зимнике будем жить на охоте, и они опять сдружатся. Как же иначе — ведь братья! Ссора забудется, весной они опять перейдут в большой дом, и мы вновь заживем все вместе...»
— Чего же тогда ждете? — спросил Баоса. — Маленькие, что ли, не знаете, как мириться?
Полокто на коленях подполз к брату, обнял его и прижался щекой к его щеке. Пиапон тоже обнял. С детства Пиапон был приучен к искренности, и никогда он не лгал, никогда не насиловал волю и не шел против нее, если в чем но был согласен. Соглашаясь помириться, он искренне стремился наладить мир со старшим братом.
Через день Баоса с сыновьями, снохами и внучатами, как и в прошлые годы, приехали на свою тонь — длинную песчаную косу на Амуре. Приехавшие из Болони, с реки Харпи озерские нанай, глядя на ладных дружных сыновей Баосы, завидовали ему и только спустя некоторое время узнали о распаде большого дома. По-разному отнеслись они к этому известию: одни, в особенности старики, негодовали, другие видели в этом веяние нового времени.
— О каком роде говорите? Родов скоро не останется. Смотрите, в стойбищах теперь живут вместе несколько родов: и Заксоры, и Киле, и Бельды...
— Верно, верно. Большие дома начали распадаться. Что останется от большого дома Баосы, если завтра какой из младших сыновей переедет в другое стойбище?
— Везде они распадаются. В Болони распался дом Бельды Пэйкиэна, в Туссере — Заксора Корчо, в Чолочи — Ходжера Корокто.
— Русские виноваты, глядя на них, молодые отделяются от родителей.
— У нас на Харпи тоже русские виноваты? Они в три года раз приезжают туда, а наши к ним не ездят. В стойбище Тогда Мунгэли большой дом Бельды Бэкуны распался. Тоже русские виноваты?
— Э-э, что сравнил! Дети же Бэкуны с отцам поссорились и вышли из большого дома.
— А в Чологи никто ни с кем не ссорился, договорились между собой и мирно ушли из дома отца. Отец их тоже был согласен.
Разговор о распаде больших домов, о мельчании, обессиливании родов продолжался несколько дней.
Кета еще не подошла к Длинной косе, рыбаки в один замет вытаскивали по две, по три кетины, которых едва хватало только на уху. Осень выдалась ветреная, дождливая, почти каждый день дул промозглый холодный низовик, пригонял тяжелые дождливые тучи. Рыбаки большую часть дня отсиживались в берестяных юртах — хомаранах. Чаще всего собирались в просторной юрте Баосы.
Когда лучший сказочник Нярги Холгитон начинал здесь новую сказку, в юрту набивалось столько людей и усаживалось так плотно, что невозможно было шевельнуться. Те рыбаки, которые не успевали вовремя занять место в юрте, рассаживались у входа, другие облепливали снаружи берестяную стенку напротив сказочника. Ни ветер, ни дождь не могли согнать их, и только вымокнув до последней нитки, они с неохотой покидали насиженное место.
Холгитон знал сотни сказок и легенд, у него были такие длинные сказки, что продолжались подряд несколько вечеров, одни он рассказывал просто, как рассказывает любой заурядный сказитель, а другие напевал на разные голоса: и за Мэргэна-Батора, и за шаманок, помощниц Мэргэна, и за слуг и служанок, и за дюли — покровителя Батора. В этих сказках непременно присутствовали звери, и Холгитон слагал песни этих зверей.
Днем, когда запрещалось древними обычаями рассказывать сказки, молодые рыбаки устраивали общие игры — бегали наперегонки, прыгали с шестом и без шеста, прыгали через веревку, которую крутили двое. Через веревку лучше всех прыгал Пиапон, никто не мог повторить его прыжки, которые он делал и на четвереньках, и лежа боком, и даже на спине — всем было непостижимо, все недоумевали, как вертевшаяся веревка проскальзывала под его спиной.
Однажды в разгар игр к Длинной косе подъехала лодка малмыжского торговца Терентия Салова. Тучный, с круглым животом, с сизым носом, немного хмельной, он, пошатываясь, вышел из лодки.
— А-а, все знакомые, все мои друзья! — выкрикивал он басом, пожимая смуглые руки ловцов. — Кетинку ловим, да? Как она тут, идет, родненькая? Эй, Харитон, ты не молчи, ты же продолжение моего языка, пересказывай своим мою речь.
Позади столпившихся рыбаков, беспокойно поглядывая на торговца, стоял Баоса. Он подозвал Пиапона.
— Если он приехал уговаривать кету ловить, скажи — мы ему не будем ловить кету, — негромко сказал он, но его услышали стоявшие рядом.
— Зачем он приехал? Кету просит для него ловить?
— Зачем ему кета? Видите, какой у него живот, будто у переевшего пса.
— У него всего хватает. Эй, Холгитон, переведи нам, чего ему надо?
Холгитон повел гостя к юртам, накормил его ухой из кеты. Торговец поел уху, он знал гостеприимство нанай: куда бы он ни приезжал, прежде всего перед ним ставили еду, угощали всем вкусным, что находилось в фанзе, в амбаре, вытаскивали такие запасы, которые берегли от самих себя. Салов ел, похваливая уху, и, только насытившись, приступил к делу, ради которого приехал на рыбацкий стан.
— Харитон, я приехал обговорить с вашими, — начал он. — Кетинку мне надо, много требуется. Вы бы ловили мне рыбку, я бы вам щедро заплатил.
Холгитон наконец во всеуслышание объявил о предложении тучного торговца.
— Нет, кета нам самим нужна, с голоду не хотим зимой помирать, — сказал Баоса.
— Правильно, самим юкола нужна, — поддержали его сразу несколько голосов.
Холгитон перевел.
— Так чего бунтуете, други? — пробасил Салов. — Я же вам деньги плачу, щедро заплачу.
— Он нам за кету деньги заплатит, — вторил ему Холгитон.
— Это ты научился с деньгами обращаться — ты и лови ему.
— Сено косил им летом, тоже за деньги.
— Не надо нам денег, без денег как-нибудь проживем, а без юколы не обойтись.
— Вы же на эти деньги можете потом всякую еду у него же купить! — кричал Холгитон.
— Чего он тогда деньги предлагает? Сразу бы сказал — крупой, мукой, сахаром расплачивается.
— На крупу, на муку можно, конечно, меняться.
— А на порох, свинец он меняется?
— Как вы не понимаете? — злился Холгитон. — Получили бы деньгами и на них могли бы все купить.
— Опять ты за свои деньги! Зачем они нам? Мы не умеем с ними обращаться.
— Пусть меняется на муку, крупу...
— А на дабу, на ситец меняется?
Холгитон с трудом растолковал сородичам условия торговца и попытался подсчитать, какую выгоду принесет рыбакам продажа кеты, но как ни бился — не смог подсчитать.
— Нет, мы не будем ему ловить, — опять заявил Баоса. — Я не хочу, чтобы зимой женщины и дети оставались голодными, да и нам в тайгу надо взять еду и корм собакам.
— Правильно, пусть уезжает.
— Может, в конце путины ему ловить, когда себе юколы вдоволь насушим?
— В конце путины можно.
Услышав о решении рыбаков, Салов побагровел.
— Кому нужна ваша кета в конце путины! Тогда она тощей зубаткой будет. Нет, вы мне сейчас, первую кетинку ловите.
— Ишь какой, ему жирную кету надо! — возмутились рыбаки. — У тебя и так живот большой, зачем тебе жирную кету?
— Не понимаю я, зачем ему требуется так много кеты?
— Ему что, забрал кету — и все, а мы без кеты зимой, без пищи, без одежды и обуви останемся.
Салов понял: ему не удастся в эту осень заготовить кеты, не удастся подзаработать на ней, а у него в кармане лежали выгодные контракты с богатыми рыбопромышленниками. Он начал поднимать цену, но рыбаки оставались глухи, они твердили одно и то же: им нужна кета на юколу, кожа ее — на одежду и обувь. Единственное, на что они соглашались, — ловить позднюю кету, когда вдоволь себе наготовят юколы. Чтобы смягчить несговорчивых ловцов, Салов прибегнул к последнему средству — приволок из лодки полбанки водки. У рыбаков разгорелись глаза. Салов зачерпнул большой чаркой водку и первым протянул Баосе.
— Пей, друг, пей, — говорил он, широко улыбаясь, — видишь, я ведь щедрый, нежадный. Пей, чего лопочешь.
Баоса принял чарку и обратился к Холгитону:
— Спроси у него, эта водка деловая или он от души за дружбу предлагает?
Холгитон долго объяснял смысл вопроса Баосы, но Салов, ничего так и не поняв, выпалил:
— Пей, старик, чтобы кеты много было, глядишь, и мне надумаешь малость уделить. Пей!
Баоса с достоинством вернул чарку торговцу:
— Не буду пить за дело, которое не могу выполнить, — сказал он. — У нас так, сам подумай: ты пришел бы ко мне просить дочь в жены, а я не могу ее отдать потому что она уже другому наречена. Что же делать? Тогда я тоже не стал бы пить твою водку, понял? Не всякую деловую водку можно пить. Ты не сердись, я всю жизнь честно прожил и сейчас честно поступаю.
Примеру Баосы последовали другие рыбаки, и разгневанный Салов, проклиная все и вся на свете, покинул стан. На второй день приезжал Феофан Ворошилин и тоже уговаривал на все лады, но тоже вынужден был уехать ни с чем.
Подошла кета, рыбаки трудились день и ночь, женщины не смыкая глаз пластали рыбу, развешивали ее на сушильнях. В один день Длинная коса разукрасилась: среди желтых песков, побуревшей листвы тальников тут и там будто вспыхнули красным пламенем сушильни со свежей юколой, дополняя осенний наряд Амура.
Рыба поднималась большими косяками, заполняя всю ширину могучей реки. То там, то тут всплескивали они хвостами, поднимая фонтанчики воды: эта в общем-то смирная в обычное время рыба теперь вела себя столь агрессивно, что разгоняла остальную рыбу по протокам и озерам, расчищая себе путь к нерестилищам. За одно притонение рыбаки вытаскивали по полной лодке полосатых рыбин.
Баоса подсчитывал улов после каждого притонения и, как бы он ни был велик, не испытывал радости, как бывало в прежние годы. Когда половина невода находилась на песке, а в кругу из поплавков вода начинала кипеть, точно в котле, подвешенном над огнем, старик улыбался, глаза его загорались молодым огнем, и он продолжал тянуть невод, не обращая внимания на брызги, на толчею рыб под ногами; но как только весь невод оказывался на берегу и сыновья принимались сбрасывать кету в лодку, старик тускнел и, нахмурившись, начинал делить весь улов на шесть ловцов. Вот эта последняя часть работы — дележ улова между сыновьями — и была самой горькой и самой унизительной для Баосы. И особенно невыносимо ему было производить дележ на глазах соседей. Он не слышал, что говорили соседи, потому что не прислушивался к их разговору, боясь услышать насмешки или оскорбительное сочувствие. Но однажды все же услышал:
— Родной отец делится с сыновьями, — сказал молодой болоньский рыбак Пячика Киле, — с сыновьями, а не с кем-нибудь. Люди одного рода не делятся, все считают своим родовым, а они...
Баоса в этот день, вытащив невод, ушел в юрту-хомаран и больше не выходил из нее. Он сидел перед небольшим костром, зажженным посередине юрты, курил неизменную трубку и размышлял о своем безрадостном житье. А сыновья и снохи ожидали его на берегу: рыба не могла долго лежать в ожидании дележа, ее надо немедленно обрабатывать, иначе она испортится. Первым не выдержал Полокто, пошел в юрту.
— Что с тобой, отец? Заболел?
Баоса сидел, как каменный. Полокто опустился на корточки напротив него.
— Рыба лежит, ждет.
— Ваша рыба, сами делите между собой, — сердито ответил Баоса.
— Ты же, отец, должен делить.
— Сами ловите, сами делите, мне больше не надо!
— Как не надо?
— Зачем мне, одинокому, много юколы?
— Нет, так нельзя, отец...
— Уходи!
— Мы на тебя тоже будем...
Баоса схватил из кучи приготовленных дров сухую, до блеска отполированную амурской водой палку и ударил старшего сына. Полокто не стал ждать второго удара и ветром выскочил из юрты.
С этого дня он стал выполнять ту работу, которую старый Баоса считал самой унизительной и оскорбительной для себя; но Полокто не гнушался ею, а выполнял с внутренним удовлетворением и даже выторговал для своего сына Ойты половину мужского пая и теперь раскладывал всю добычу на шесть с половиной куч. Сердобольный Калпе заикнулся было, чтобы и Пиапону отделили половину доли, потому что у него такая же семья, как и у старшего брата, но, услышав возражение самого Пиапона, замолчал. Тогда Калпе при переноске добычи к месту разделки незаметно для окружающих начал подбрасывать второму брату четыре-пять кетин из своего пая.
А Баоса все отсиживался в юрте, окруженный горьким дымом и горькими мыслями. Сколько он ни думал, сколько ни искал причин всех свалившихся на него несчастий, все концы мыслей, как нити невода сходятся к балберам и грузилам, сходились к Поте и Идари. И после долгих размышлений старик решил опять пуститься на поиски беглецов. На этот раз он решил ехать один на оморочке. Что будет делать с беглецами, если даже разыщет их, Баоса не знал, но прежней мысли о расправе уже не было. Он сам себе не мог ответить, зачем ему эти поиски, если шаман не разрешил ему расправиться с ними, если он не может выместить свою злобу на воре — Поте. Можно ему разлучить Поту с Идари или нельзя — он тоже не знал, потому что уж слишком непонятными были слова шамана. Баоса знал: куда бы ни сбежал Пота, он на кетовую путину непременно выедет на Амур, в другом месте он не поймает жирную кету, не заготовит юколы, а уж без юколы не осмелится остаться — это верный голод, если но зимой, то весной перед ледоходом.
«Надо по всем тоням проехать, на какой-нибудь я его встречу», — думал старик.
Он бы выехал без задержки, если бы не болезнь старого верного друга — Тэкиэна. Вот уже несколько дней его любимая охотничья собака не принимала пищи. Она лежала на подстилке возле хозяина обессилевшая, и только живые подслеповатые глаза ее блестели в полутьме юрты.
Баоса гладил отяжелевшую голову любимца и спрашивал уже сотый раз:
— Что болит, Тэкиэн? Грудь, живот? Может, чего маленько поешь? Умираешь, видно, оставляешь меня, все меня оставляют. — Старческая скупая слеза выскальзывала из узких глаз, как из подрубленного весеннего клена выползает сок, и медленно скатывалась по щеке.
Тэкиэн умер без стона, без хрипа, как умирают только сильные существа. Посмотрел последний раз на хозяина преданными глазами, устало сомкнул веки и уснул вечным сном.
— Ну вот и ты ушел, — тихо сказал Баоса. — Мне тоже, видно, надо собираться, я на земле скоро лишним стану.
К вечеру, когда все сыновья ушли на очередной замет невода; Баоса поднял на руки окоченевший труп Тэкиэна, прижал к груди и кустами, скрываясь от любопытных женщин и детей, зашагал к высокой релке. Но ему не пришлось одному хоронить своего преданного помощника. Когда он выкопал яму и опустил труп, к нему подошел Гаодага Тумали. Он молча помог засыпать яму.
— Жалко Тэкиэна, за всю жизнь не встречал такую собаку, — сказал он, когда сели выкурить трубку.
— Что поделаешь, ко всем приходит старость, — ответил Баоса. — Уж смотрел за ним, как за малым ребенком.
— Долго болел?
— Дней пять не ел.
Помолчали, Гаодага травинкой чистил трубку.
— Внук мне сказал, что ты пошел собаку хоронить. Почему мне не сообщил?
— Никому я не сообщал, незачем было, собака все же собака, какая бы она ни была.
— Не говори так. Тэкиэн тебя раза два из-под медведя вытащил, меня спас раз, другой на его месте свою шкуру спасать бы стал. У меня отец хоронил любимого пса, плакал, как не плакал, когда хоронил мать.
— Старый он был, прожил свое, — неопределенно ответил Баоса.
Гаодага так и не понял, о ком идет речь — о его отце или о Тэкиэне.
— Ты, друг, обозлен сильно, — мягко проговорил он. — Тебя нынче кругом несчастья преследуют, я тоже на твоем месте не знал бы, как быть. Тяжело тебе. Ты не сердись на меня, я не подхожу к тебе, потому что чувствую, как ты точишь сердце мыслями об Идари. Я не прошу за Исоаку женщину из твоего дома, тори тоже не прошу — не убивайся зря.
— Ты, Гаодага, считаешь меня нечестным человеком, — сердито ответил Баоса. — Я должен тебе вернуть человека за Исоаку и верну этот долг.
— Где же ты возьмешь человека? Идари хочешь разыскать?
— Это мое дело. Если человека не верну, то тори выплачу.
— Ты опять злишься, Баоса. Не для этого я высказал свои мысли, ты же знаешь меня, я говорю то, что подсказывает мое сердце.
— Я тоже не обманщик!
— Успокойся, Баоса, я еще раз повторяю, я не прошу твоего человека взамен Исоаки, не прошу тори, от всего отказываюсь.
— Твое дело отказываться, мое дело свое слово выполнять. Дал я слово — обязан выполнить.
Гаодага опять принялся чистить трубку.
«Ишь с какими разговорами пришел, — злился Баоса, — нашел предлог — хоронить Тэкиэна, Нет уж, не хочу я быть посмешищем для людей, хватит. Пусть что будет, то и будет. Больше не станете надо мной смеяться. А тебе, Гаодага, верну долг».
На следующее утро Баоса уехал в Нярги, отвез первую партию готовой юколы. Лодку обратно пригнал ездивший с ним Дяпа. На вопрос братьев: «Где отец?» — он ответил: «Уехал искать Поту с Идари».
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Разбушевавшийся на озере Болонь шторм заставил Токто два дня отсиживаться в густых тальниках. На третий день шторм утих, подул свежий верховик, и Токто поставил свой белый квадратный парус, похлопал мокрым веслом по вздувшейся парусине и озорно, по-мальчишечьи засвистел. Оба с Кэкэчэ с улыбкой смотрели на проделки мужа, они были довольны всем на свете — и мужем, и его шутками, и открывшимся осенним синим небом, и все свежевшим верховиком, — редко им приходилось ездить на лодке сложа руки, а когда выдается такой случай, почему бы не быть довольными? Женщины закурили и отдыхали, изредка перебрасываясь словами. Токто сидел на корме, лениво развалившись, и пел длинную, бесконечную песню, рассказывавшую о богатствах озера Болонь, прославлявшую его щедрость.
Выехавшие раньше Токто полоканцы задержались в Болони, и он догнал их в стойбище. На Амур выехали все вместе. Озерские нанай имели на Амуре свои тони на песчаном берегу ниже Малмыжа. Сюда каждую осень приезжали жители Хурэчэна, Сэпэриунэ, Тогда, Мунгали, здесь каждый год встречались родственники, друзья, влюбленные. Этот песчаный берег не раз становился местом гибели молодых охотников из-за жен, оскорбленных сестер, местом гибели женщин, которых ревнивые мужья ловили во время встреч с возлюбленными.
В конце тони среди густой заросли краснотала стояла одинокая яблонька — самое сухое и высокое место на всем острове, — и там любили озерские нэнай раскидывать свои берестяные летники. Но третий год, как озерские избегают этого некогда любимого места: три года назад гордый охотник Мигдя Киле из Хурэчэна застал среди краснотала красавицу жену Ангу с возлюбленным и зарезал ее, а молодого охотника избил так, что у того из носа и рта хлынула кровь. Мигдя ни перед кем не ответил за убийство жены, пристыженные ее родители даже не посмели потребовать судебного разбирательства, а молодой любовник только благодарил эндури, что остался в живых. Правда, старшие его братья подняли было голоса, но все родственники запротестовали, заявив, что не станут участвовать в кровной вражде, да и объявлять вражду им стыдно. Так затихло это дело, но только с тех пор озерские перестали селиться на той возвышенности с красноталом, которая напоминала им о пролитой крови.
Этой осенью Токто решил поселиться на запретном уютном местечке. Когда он объявил о своем решении женам, те переглянулись испуганно и решительно запротестовали. Женщин поддержали соседи, с которыми Токто должен был рыбачить одним неводом.
— Будем жить, здесь самое удобное место, — настаивал Токто. — Мышей мало, насекомых всяких мало, юкола будет быстро сохнуть.
— Соромбори, грешно, — твердили рыбаки и их жены.
— Послушай людей, — взмолилась старшая жена Оба. — Из-за твоего упрямства нас может посетить несчастье.
Оба знала, на какую душевную струну мужа нажимать, она намекала на смерть своих детей в младенчестве, она знала, как Токто жаждет иметь кучу сыновей и дочерей. Токто нахмурился, но только какое-то мгновение лицо его оставалось хмурым, потом вдруг улыбнулся, обнажая белые как снег зубы.
— Ничего, Оба, не из-за этого бывают несчастья. Друзья, будем здесь жить, весь грех принимаю на себя. Если меня преследуют пятьдесят чертей, то пусть появится пятьдесят первый.
Не было среди озерских нанай человека, который бы не был знаком с Токто, все охотники знали его как храброго, неутомимого человека и все с уважением относились к нему. А молодые охотники во многом подражали ему, искали его дружбы. И сейчас, после некоторого колебания, они согласились с Токто, кто просто бравируя, а кто боясь прослыть трусом.
Все полоканцы поселились на возвышенности, в зарослях краснотала, который надежно укрывал их берестяные летники и от ледяного низовика, и от холодного в это время года верховика.
Перед подходом кеты к озерским нанай несколько раз наведывались малмыжские торговцы, просили ловить им рыбу.
Токто долго раздумывал, как ему поступить, уж очень соблазнительны были предложения торговцев, если бы ему не надо было готовить юколу и для Поты, то он, пожалуй, попытал бы счастья. Один только Токто колебался, другие охотники даже не стали слушать торговцев: им надо спешить в тайгу, ведь самое лучшее время охоты на соболя это октябрь — месяц петли. Торговцы растолковывали им, что на кетовой путине они смогут заработать не хуже, чем в тайге на соболевке, но никто их не слушал и не верил.
— Кета нас кормит и одевает, — говорил хурэчэнский шаман Ичэнга Вельды. — Я не слышал, чтобы кто-нибудь на кете товары, съестные продукты зарабатывал. Соболь — это другое дело. Белка, лиса, выдра — вот те могут принести материал на одежду, крупу, муку.
Через Амур с безумолчным гомоном потянулись длинные, будто на ветру колышущиеся стаи гусей и крикливых казарок.
— Первый ход гусей, — говорили рыбаки, провожая взглядом караваны птиц. — Кету обогнали, вот-вот и она должна подойти.
Когда подошли первые косяки долгожданной кеты, вслед за ними явились снизу рыбаки из Мэнгэна. Они немало удивили озерских, потому что Мэнгэн славился своими тонями, богатыми уловами, и никто толком не знал, какая причина заставила рыбаков бросить эти тони. Возглавлял артель неводчиков Американ Ходжер, с которым Токто был немного знаком.
— Коряжины на ваших тонях засели? — спросил Токто, поздоровавшись с приехавшими.
— Может, и коряжины, — не очень дружелюбно ответил Американ. — Чего интересуешься?
— Хотел помочь их убрать.
— Иди убирай.
— Нехорошо поступаешь, Американ, у своих тони отбираешь.
— Потеснитесь.
— Нам не жалко места, рыбачь. Только видишь, сколько тут неводов.
— Вижу, не слепой.
Токто так и не узнал, почему мэнгэнские рыбаки бросили свои тони, да и допытываться ему не хотелось. «Пусть рыбачат», — сказал он своим озерским, которые начали было роптать. Но недолго удалось Американу скрывать свою тайну. На второй день из Малмыжа приехал торговец Терентий Салов, он забрал весь улов мэнгэнцев и увез к себе.
«Так вот оно что! Они на русских кету ловят, — догадался Токто. — Интересно, сколько им торговец муки и крупы отпустит?»
Через несколько дней к мэнгэнцам приехали двое русских и на месте начали засаливать весь их улов. Токто все свободное время следил за их работой.
«Мы юколу вялим, а они солят, — размышлял он. — Что вкуснее? Юкола должна быть вкуснее, она на ветру со всякими травяными, цветочными запахами, солнцем опаляется, а соленая должна быть горькой, уж слишком много соли сыплют».
Однажды, когда он наблюдал за работой русских, к нему подошел Американ, опустился рядом на песок.
— Научиться хочешь солить? — спросил он.
— Нет, незачем этому учиться, — ответил Токто.
— Ловко они придумали, говорят, соленая кета никогда не портится.
— Только как ее есть?
— Едят, привычные они к соленому.
— Зачем им столько кеты?
— Что ему, богатому? — с завистью проговорил Американ. — На железных лодках в город отправляет. Перепродает дороже.
— Тебе этот брюхастый сколько муки и крупы обещает?
— Мало, он много не даст.
— Но сколько? Сколько за кетину дает?
— За кетину? Э-э, Токто, чего ты захотел! Он расплачивается не за кетину, а только за десяток кетин, понял?
— Зачем тогда ему отдаешь улов? Из десяти кетин сколько юколы выйдет, сколько обуви и одежды! Правильно я сделал, что отказался ему ловить.
— Я тоже больше не буду ему ловить, — грустно проговорил Американ. — На этом не разживешься, надо талисман найти, только талисман поможет разбогатеть.
— Ты что, богатым собираешься стать?
— Талисман буду искать, — уклонился от прямого ответа Американ и вдруг схватил за руку Токто: — Смотри, Баоса Заксор идет, ко всем приглядывается. Знаешь, кто это?
Токто знал, что перед ним отец Идари, знал он его по рассказам Поты, но сам видел впервые.
— Это отец Пиапона, из Нярги, у него самую младшую дочь украл и увез один молодой охотник. Злой старик, не хотел бы я быть на месте того молодого охотника, ею ждет смерть. Всей семьей он ездил по Амуру, искал беглецов, потом, я слышал, умерла его жена, а хулусэнский великий шаман запретил преследовать дочь.
Токто хотелось как можно больше узнать о Баосе, но он побоялся расспрашивать, чтобы ненароком не выдать свою тайну. Ему было ясно, что старик, несмотря на запрет шамана, на свой страх и риск продолжает поиск Поты, что его названому брату по-прежнему угрожает смерть.
Баоса шагал по сыпучему песку, тяжело переставляя ноги, ни на что окружающее не обращал внимания, ни с кем не заговаривал, даже не посмотрел на столь необычное для нанай занятие — соление кеты.
«На вид не определишь, злой он или нет», — подумал Токто.
Баоса, не взглянув на Токто с Американом, прошел мимо. Перед ним стояли выстроенные детьми из мокрого песка дома, а вокруг домов лежали всякого рода ракушки, сияя и переливаясь перламутровым нутром, стояли высохшие ветки, олицетворявшие деревья в этом песчаном стойбище. Все это селение было отгорожено высокой песчаной стеной с двумя выходами с набережной стороны, и все мальчишки и девчонки, принимавшие участие в игре, заходили в селение или выходили из него только через эти ворота. Взрослые стороной обходили песчаное стойбище и прикасались к нему в редких случаях, когда ребятишки забывали разрушить на ночь свою постройку. Песчаное селение было однодневным селением, и как бы оно ни было красиво построено, требовалось уничтожить на ночь, иначе ночью злые духи могли по следам пальцев разыскать детей; связываться же со злыми духами никому не хотелось.
В свободное время Токто часто приходил в песчаное стойбище, смиренно становился у ворот и громко спрашивал разрешения войти. Ребятишки с радостью встречали его, они знали, что Токто никогда не явится без подарков, и всегда оказывались правы: Токто приносил то горсть спелого шиповника, то живых раков и всяких ракушек, которые невод вытаскивал со дна Амура, то живых рыбешек в берестяной чумашке. Подарки Токто предназначались всем жителям песчаного стойбища, и поэтому они складывались в большом доме в центре селения.
А Баоса шел прямо по игрушечному стойбищу, которое только что покинули ребятишки: родители позвали их поесть.
«Неужели не свернет? Видит же, что это дети играют», — думал Токто, глядя в спину старика.
Баоса перешагнул песчаную стену, наступил на очаг, потом на большой дом, где лежали подарки Токто, и Токто услышал, как захрустели ракушки под ногами Баосы.
— Ты чего скрипишь зубами? — спросил Американ.
И тут только понял Токто, что он слышал не хруст раздавленных ракушек, а скрип собственных зубов.
— Как ты думаешь, куда мог спрятаться тот молодой охотник, который украл дочь Баосы? — вновь спросил Американ.
«Ох, злодей, злой старикашка! Сердца у тебя нет!» — кричала душа Токто вслед Баосе.
— Ты чего так переменился? Рассердился на кого, что ли? — изумился Американ, взглянув в лицо собеседника.
— Злой человек этот старик, очень злой!
— Я же говорил тебе.
— Теперь я сам вижу.
— Как видишь? На спине, на затылке его злоба? — усмехнулся Американ, довольный своей шуткой.
— Ты не видишь, как он растоптал песчаное стойбище детей?
— Вижу, ну и что?
— Злой он человек.
— Это потому, что детские игрушки растоптал?
— Да, потому! Ты бы стал нарочно топтать детские игрушки?
— А он, может, не видел...
— Как не видел? Он не слепой!
— Странный ты человек, Токто. Если я сейчас растопчу все эти домишки и игрушки, выходит, я тоже злой человек?
— Этого никто не сможет сделать, у кого есть сердце, понял?
— Странный ты все же человек. Растоптал — и злой, не растоптал, обошел — не злой. Как так можно о человеке судить?
— Я так сужу, — успокаиваясь, ответил Токто.
— Твое дело. А Баоса правда злой человек. Ты знаешь, ведь его большой дом распался.
— Как распался?
— Просто, распался. Старший сын Полокто вышел из дома, второй сын Пиапон тоже вышел. Вот и нет большого дома.
В этот день Токто узнал о многих сторонах жизни Баосы, Полокто и Пиапона. До последнего дня путины он не переставал интересоваться ими. Кое-что он разузнал и об отце Поты — Ганге.
«Одинокий, как когда-то жил мой отец», — с грустью подумал Токто, услышав о бедствовании старика.
В середине путины Токто отвез в амбар на Харпи лодку юколы и сушеного костяка — корм для собак. Вернувшись на Амур, он встретился на берегу с Американом, который складывал в лодку спальный мешок, кое-какие пожитки; товарищи его разбирали летник и сворачивали в трубы бересту. Исчезли русские засольщики со своими бочками...
— Вот, уезжаю, радуйся, освобождаю тебе тонь, — усмехнулся Американ.
— Рыбачь, ты мне не мешаешь, — ответил Токто.
— Хватит, нарыбачился я. Вернусь домой, начну юколу себе готовить.
— А русский торговец как?
— Пусть подавится моей кетой, пусть съест всю засоленную кету и обопьется водой, и пусть лопнет его большой живот!
— Чего ты так рассердился? Сам к нему пришел, сам согласился кету ловить, а теперь его проклинаешь. Так мы не делаем.
— Вы, вы! Что вы понимаете в русских? — закричал Американ срывающимся голосом. — Говорить-то по-русски не умоешь, а еще хочешь меня чему-то научить.
Токто побледнел, тугие желваки заходили над челюстями.
— Что вы понимаете, в этих русских и китайцах? — продолжал кричать Американ, не замечая, как изменилось лицо Токто. — Я всю жизнь к ним приглядываюсь, язык их выучил, могу разговаривать и по-русски и по-китайски, всю их жизнь знаю. А ты знаешь что-нибудь? Ничего не знаешь! Ты задумывался, как они живут, где достают еду, когда сами ни рыбу не ловят, ни на охоту не ходят? Скажешь — они торговцы, у них все свое. А где они достали это все? Ты сейчас можешь бросить рыбную ловлю, охоту и сделаться торговцем? Нет, не сможешь, на это не хватит у тебя ума! Я много думал об этих торговцах, сравнивал нас, амурских, с тобой, озерским. Подумай сам, ты озерский, у тебя много мяса, а у меня рыбы — сазаны, максуны, калуги, осетры, такую рыбу зимой не увидишь на Харпи. Приезжаю я к тебе, привожу рыбу и отдаю ее за мясо — ты доволен рыбой, и я доволен мясом. Так? Так. Потом я съедаю все мясо, ты — всю рыбу, вот и вся наша с тобой торговля. А где излишки? А у русских и китайских торговцев всегда остаются излишки, а откуда они? Привожу я ему пушнину, меняю на продукты, на материю для одежды. Я остаюсь доволен, и он остается доволен. Приезжаешь ты — меняешь, и опять ты тоже до-волен, и он доволен. А потом смотришь, а у него товаров столько же, сколько было, маленько убавится, наступает лето — ему вновь привозят...
Чем больше говорил Американ, тем больше почему-то сам успокаивался. Успокаивался и Токто. Оскорбленный в начале разговора, готовый с кулаками наброситься на Американа, он теперь слушал его, пропуская половину его рассуждений мимо ушей.
— Видно, богатые у него родственники, они и привозят ему товары, — наконец, вставил он слово.
— Родственники. Эх ты, Токто. А у русского торговца Салона тоже родственники, которые ему на железной лодке товары привозят, а его соленую кету увозят? Родственники это?
— Видно, родственники.
— Ничего не родственники, это такие же торговцы, как и он сам. Понял? Говорил я тебе, Салов покупает у меня кету, потом перепродает другим и при этом получает лишние деньги.
— Говорил. Ну и что?
— Тебе не понять, ты даже деньги не умеешь считать.
— Может, ты научишь этой хитрости? — спросил Токто, чувствуя, как вновь в нем разгорается злоба на Американа.
— Считать деньги сам научишься, а торговцев никогда не поймешь...
— Мне незачем их понимать, дают они за шкурки еду и одежду, и этого хватит. Но я не пойду для них кету ловить, как это сделал ты.
— Правильно, не лови им кету, — вдруг согласился Американ и этим крайне удивил Токто. — Я тебе от души говорю — не ходи к торговцам кету ловить, они тебя обманут.
— Выходит, они тебя обманули? Как же так, ты их язык знаешь, ты их жизнь знаешь, а они взяли да и обманули тебя?
— Смоешься? — Американ кашлянул и плюнул себе под ноги. — Смейся, потом я над тобой посмеюсь.
Американ даже не попрощался и почти враждебно расстался с Токто. Тот не искал с ним сближения, и ему было безразлично, как к нему относится Американ. Он не любил высокомерных людей, и Американ ему не понравился своим умничаньем, бесконечными разговорами о деньгах, о талисмане богатства.
После выезда мэнгэнских Токто порыбачил с артелью дней шесть, заготовил еще одну лодку юколы и корма для собак и опять отвез в амбар. Первой партии юколы уже не было в амбаре, за ней приезжал, как договорились при расставании, Пота. Об этом свидетельствовали три пучка связанной травы у подножия левой сваи амбара. Оставив вторую лодку юколы в амбаре, Токто вернулся в Болонь за продуктами.
Когда он вошел в лавку торговца У, там находился высокий широкоплечий охотник с угольно-черными проницательными глазами. Токто не встречался раньше с этим человеком, но он, по обычаю, поздоровался и сел в сторонке, ожидая окончания дела незнакомца с торговцем У.
— Сказал я тебе, не буду платить чужие долги, — сердито проговорил незнакомец.
— Нет, Пиапон, так не выйдет, ты тоже должник, ты ведь жил в большом доме, — слащаво улыбаясь, настаивал торговец.
«Пиапон, так это, наверно, брат Идари!» — подумал Токто, внимательней разглядывая незнакомца.
— В жизни я не изменял своему слову — не буду платить долги большого дома. Я больше всех добывал зверей, соболей, выдры, белки.
— Все знаю я, Пиапон, все понимаю, я очень много слышал о тебе, знаю, что в большом доме ты был де могдани, о тебе знает весь Амур, — явно льстил торговец. — Но ты все же неправ: долг большого дома — это и твой долг, ты жил там, ел.
— Отдай панты, — потребовал Пиапон.
— Ты всегда был умный, ты был умнее всех в большом доме, и я тебя всегда уважал, и уважаю, и уважать буду.
— Панты отдай, — громче повторил Пиапон.
— Отдам, отдам, не буду отбирать...
— Посмей только.
«Охо, да он с характером!» — восхитился Токто.
— Панты у тебя — самый низший сорт, я бы их и за летние долги ваши не счел.
— Какие бы они ни были — они мои. Я тебе ничего но должен и никогда не приду.
— С кем тогда будешь обмениваться? С русскими?
— В Вознесенское поеду.
— А долг твой за мной останется? Русской полиции мне заявить, что ты не отдаешь долг?
— Заявляй, — ответил Пиапон и вспомнил урядника, приезжавшего летом в Нярги.
«Заявляй, заявляй, как бы тебе не попало», — подумал он.
— Ладно, чего мне заявлять. Если отец твой будет все долги платить, я не буду заявлять. Говоришь, в Вознесенское поедешь, у меня там друг. Давно я не видел моего друга, соскучился даже, я, пожалуй, ему письмо напишу. Ты подожди немного, я сейчас быстро напишу.
Торговец вытащил бумагу и торопливо стал выводить иероглифы: «Друг мой, почтенный Чжуан Му-сань. Обращаюсь к тебе, как к брату по нашему торговому союзу. Подателю этого письма, обладателю великолепных пантов, ты должен воздать дань высшего уважения. Он от меня переходит в твои руки, понимаешь? Панты стоят четверть стоимости, не выше, не давай ему поблажек и выжимай с него сок, а соку у него достаточно — это лучший охотник Нярги. Да что я тебя поучаю? Мне ли тебя поучать? Я придерживаюсь всех статей закона нашего союза. Здоровья тебе, дорогой почтенный Чжуан Му-сань».
Пиапон искоса глядел на согнувшегося над бумагой китайца, и все больше и больше его раздражало желтое бесстрастное его лицо, белая бумага и быстро двигавшаяся смуглая рука. Особенно раздражала бумага; сколько помнит себя Пиапон, ни один клочок бумаги не приносил ему радости, наоборот, эти чистые или разлинованные листки таили в себе беды и несчастья — долг, приписанный ему торговцем, находится где-то в толстых книгах, лежащих на полке.
Торговец дописал письмо, свернул лист вчетверо и протянул Пиапону.
— Я передумал, не поеду в Вознесенское, — сказал Пиапон, взял с лавки панты, спокойно и неторопливо обернул их чистой тряпкой и вышел из лавки.
«Какой человек! Какой характер! — восхищался Токто, глядя ему вслед. — Вот какой смелый человек брат Идари!»
Торговец У будто проглотил язык, растерянно смотрел на медлительного Пиапона и стоял, протягивая свернутое письмо. Когда широкая спина Пиапона скрылась за дверью, он разразился бранью. Токто никогда раньше не видел разъяренного торговца, ему раньше казалось, что У так же смирен, как безобидный енот.
«Да, такому еноту подсунь только руку!» — подумал он, глядя на китайца. Наконец торговец опомнился.
— Смотри, смотри, Токто, какой неблагодарный человек этот Пиапон! — воскликнул фальцетом У. — Не я ли его любил, не я ли ему присылал подарки, не его ли детям посылал сладости! Ах, какой неблагодарный человек. Да что от него и ждать? Родного отца бросил, на старости лет бросил, а старик его вскормил, вспоил. Нехороший человек, очень нехороший. Жил в большом доме, а долг большого дома не хочет отдавать. Разве ты, Токто, так поступил бы? Нет, никогда бы так не поступил. Ты, Токто, великий охотник, душой чище Пиапона, благороднее.
«Да, я бы, наверно, не бросил отца, — несколько польщенный, подумал Токто. — А все же этот Пиапон хороший человек. Смелый».
Торговец У считал себя из всех своих собратьев по торговому союзу лучшим знатоком нанай, и в этом он был несомненно прав. Из многолетних наблюдений он сделал немало полезных выводов и при разговоре с охотниками знал, с кем как обходиться, но чаще всего прибегал к своему излюбленному приему — льстил и тешил их самолюбие.
И вот впервые нанай, не дослушав о своей небывалой охотничьей удачливости, храбрости, покинул его лавку, не отдав долга, не закупив продовольствия. Впервые за долгие годы его пребывания на Амуре охотник-нанай — это низшее, достойное презрения существо — посмел его оскорбить, забрать с прилавка облюбованные им панты. «Ну, нет, ты, Пиапон, еще узнаешь мою железную руку!»
— Ты чего все бормочешь? — спросил Токто.
— Подсчитываю, — зло ответил торговец. — Чего ты нынче так много продовольствия берешь!
— Долга у меня не было раньше, а теперь решил задолжать. Почему это я один должен ходить без долга? Что я, хуже других? — усмехнулся Токто.
— Бери, мне не жалко, — через силу улыбнулся У и добавил мысленно: «Бери, бери, с этого дня ты тоже, великий охотник, будешь ходить связанным по рукам и нотам».
Токто погрузил продовольствие в лодку и выехал из Болони. На второй день он был на Харпи и у амбара встретил поджидавших его Поту и Идари. Названые братья встретились по-братски, обнялись, старший поцеловал младшего в щеки. Рядом женщины обнимали Идари. Потом, за едой и трубками, братья делились новостями и засиделись до позднего вечера.
Новость, привезенная Токто, не обрадовала Поту, а вспомнив о скором отъезде в тайгу, он призадумался и приуныл. Токто успокаивал его, уверял, что Баоса совершенно потерял его след и больше не станет разыскивать, потому что ему тоже надо уходить в тайгу на соболевку.
Токто торопился в тайгу: наступал месяц петли — октябрь, самое лучшее время для охоты на соболя. Вернувшись в стойбище, он прихватил с собой бутылку водки и отправился вместе с Потой в гости к Пэсу Киле. После взаимных приветствий, непродолжительной беседы о погоде Пота по знаку Токто вытащил водку, подогрел и в маленькой чарочке поднес Пэсу. Старик не колеблясь принял чарочку.
— Дака, пришел я к тебе с братом просить помощи, — сказал Пота, опускаясь на колени. — Старший брат мой говорит, что рядом с его ключом находится твой охотничий участок, что ты иные годы не затаптываешь там звериные следы. Ты, дака, знаешь, я здесь новый человек, ничего своего не приобрел, охотничьего участка не имею. Не уступишь ли мне свой участок на эту зиму, об этом пришел я просить. — Пота поклонился и ударил лбом об пол.
Пэсу молча выслушал молодого охотника, и когда Пота отбил поклоны, он поставил чарочку перед собой на нары. Токто следил за каждым движением старика, и невыпитая чарочка вызвала у него беспокойство.
— Да, нэку, твоя просьба трудная, — ответил Пэсу. — Видно, зря я принял из твоих рук чарку, не выслушав просьбы. Думал, другое что попросишь, а ты вот что... Охотничий участок...
Токто, Пота, дети и внуки Пэсу выжидательно молчали.
— Нынче я как раз собирался на тот участок. — Пэсу опустил голову. — Нехорошо вышло, к старости к водке жадным становлюсь, что ли? Зачем, не выслушав просьбу, принял чарку? Чувствовал я, что деловая водка. Нехорошо.
— У тебя, дака, есть другие богатые участки, — наконец промолвил слово Токто. — Посоветовал я просить твой ключ, потому что хочу с ним жить, вместе охотиться.
— Понимаю, Токто, все понимаю. Если бы не принял... отказал бы, теперь ничего не поделаешь, по обычаям...
— Спасибо тебе, дака, спасибо! — растроганно сказал Пота. — Не забуду я твоей доброты.
Через пять дней рано утром Токто с Потой грузили в лодку охотничье снаряжение, продукты, поверх всего положили нарту. На корме прощально выли собаки.
Закончив погрузку, хозяева вернулись в фанзу, встали на колени перед гуси торани — центральным столбом фанзы — и отбили почтительные поклоны, прося его хранить фанзу в целости, оберегать всех женщин от злых духов и всяческих болезней. Пота от себя просил, чтобы главный столб заранее во сне предупредил Идари об опасности, если она возникнет, умолял защитить его любимую жену. А Токто долго бил поклоны и твердил столбу, чтобы он всеми мерами защищал жизнь всех новорожденных щенят, подразумевая под щенятами будущего сына или дочь. Потом охотники с этими же просьбами кланялись очагу. Прощались с женами коротко: Токто потребовал от старшей Обы беречь молодую Кэкэчэ, а Пота прижал к груди мокрое лицо Идари и повторял шепотом, чтобы она в любое время готова была бежать от преследователей, если они появятся в Полокане, и чтобы она берегла себя, а следовательно и сына, которого она носила под сердцем.
Провожало отъезжающих все стойбище: мужчины, решившие уйти в тайгу после ледостава, и празднично настроенные женщины и дети. Они так же празднично-счастливые будут встречать возвращающихся охотников, но ведая, что, может быть, с возвращением промысловиков их всех ожидает большое несчастье.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В собственном доме хозяин сам устанавливает порядки, какие ему вздумается, и гость обязан им подчиняться. Если хозяин крестится в угол какому-то тусклому изображению человеческого лица, то гость хотя бы из приличия обязан последовать его примеру. Только Пиапону непонятно, почему Митрофан стоя крестится своему богу и так быстро тычет пальцами в лоб, в живот и в оба плеча, будто куда-то спешит. Пиапон в нерешительности стоял сзади Митрофана, потом опустился на колени и перекрестился, как его учили попы. Митрофан косо взглянул на друга и усмехнулся. Пиапон перехватил его взгляд, смутился и поднялся на ноги.
«Эндури на ногах я не молился, даже перед хозяевами речек и ключей опускался на колени, почему русскому богу должен стоя молиться?» — подумал смущенный Пиапон. Митрофан усадил друга за стол на необычный для Пиапона высокий табурет. Хозяйка — светловолосая, загорелая Надя — ставила на стол горячую отварную картошку, красную кету, соленые пупырчатые огурцы и капусту. Пиапон раньше много раз пробовал у Колычевых картошку, она ему пришлась не по вкусу, не нравились ему и кислые огурцы, но он храбро ел и верил, что этим он выказывает свое уважение хозяину дома. Теперь при виде огурцов он почувствовал, как рот начал заполняться слюной.
— Тятя на Амуре, нет дома, — сказал Митрофан, опережая обязательный вопрос Пиапона.
Пиапон кивнул головой, взял кусок кеты — как-никак рыба все же знакомая пища, но тут же вынужден был изменить свое мнение: кета оказалась соленой-пресоленой.
— С картошечкой, Пиапон, очень вкусно, — сказала Надя, пододвигая ему миску с рассыпчатой крахмальной картошкой.
Гость должен есть все, что предлагают хозяева. Пиапон откусил добрый кусок картофелины, разжевал с соленой кетой, и ему показалось, что картошка приобрела совершенно другой вкус. Не веря себе, он вновь откусил картошки, потом рыбы и удивленно сказал по-нанайски:
— Митропан, вкусная твоя еда.
— Картошка, — Митрофан с хрустом разгрыз головку кеты. — Когда ешь картошку с кетой, вкусно получается.
— Огурчиков попробуй, капустки, — придвигала Надя гостю миски. Но огурцы были кислы так же, как и в прошлый раз, капуста солена.
— Митропан, надо больше свежей пищи есть, — посоветовал по-дружески Пиапон. — Свежая пища всегда вкуснее.
— Не нравится солонина?
— Нанай не ест много соленого.
После чая встали из-за стола. Митрофан принес из кладовки какой-то незнакомый железный предмет.
— Из Николаевска привезли, — сказал он, — говорят, любого зверька хватает, капкан называется.
— Капкан, — повторил Пиапон, разглядывая предмет. — Как же им ловить?
Митрофан, сжав правой рукой пружину, насторожил капкан.
«Смотри, вроде бы пасть раскрывает», — удивился Пиапон.
Митрофан слегка задел палочкой пятак капкана, он внезапно со звоном щелкнул и сжал конец палочки. Пиапон пришел в восторг.
— Быстрее убирай палочку, — попросил он.
— Попробуй сам, — Митрофан поднес настороженный капкан Пиапону. Как ни старался Пиапон быстро отдергивать палочку, капкан каждый раз успевал схватить ее конец.
— Как хорошая собака, — похвалил Пиапон. — Не отпускает. Цепко хватает.
— Торговец сказал, им можно любого зверька ловить: хорька, белку, лису, енота, соболя. Хочешь, я тебе отдам его, у меня еще три штуки останется.
— Зачем? У меня самострелы есть, тоже никакого зверя не пропускают.
— Возьми, я дарю тебе.
— Спасибо, Митропан, спасибо. — Пиапон вертел в руке капкан, любовался им, как ребенок любуется новой игрушкой. — Куда идешь охотиться?
— С Ванькой Зайцевым на Сихотэ-Алинь подамся, он знает там все места.
— Ничего он не знает, — сердито возразил Пиапон. — Одно место запомнил возле нашего участка, вот и хвалится. Языком много болтает.
— Это хорошо, я буду приходить к тебе советоваться. Помнишь, ты обещал меня охоте обучать.
— Обещал. Всегда помогу. Ты сейчас мне помоги, хочу панты на еду, на одежду обменять.
— А в Болонь зачем ездил?
— Меняться думал. Разругался.
— С Терентием Саловым хошь обменяться?
— Да.
— На руку нечист, — проговорил Митрофан по-русски и добавил по-нанайски: — Нечестный он человек.
— Помоги, ты русский, ты все понимаешь.
— Русский-то я русский, да в торговле тоже мало разбираюсь, — сознался Митрофан. — Ладно, идем.
Терентий Иванович встретил Митрофана с Пиапоном на крыльце. Услышав о цели их прихода, он радостно хихикнул и залебезил. Бросив беглый взгляд на панты, он стал предлагать муку, пшено, чай, сахар, раскладывал и разворачивал на прилавке штуки ситчика, синей китайской дабы и русского сукна. Пиапон поинтересовался, сколько метров материи и сколько продовольствия может получить за панты. Салон вытащил из-за прилавка банку заспиртованных пантов, хотел похвастаться, что он владелец более лучшего сорта пантов, чем принес Пиапон. Но как только он вытащил банку, Пиапон сразу узнал панты, которые сам срезал, сам консервировал в кипятке — это были панты, добытые Потой.
«Обменял на еду, какой молодец! — восхитился Пиапон. — Значит, с голоду не умрут, от холода тоже спасутся. Молодец, Пота!»
— Терентий, ты не крути, ответь человеку, у него дети... — сказал Митрофан.
— Ты, Митрофанушка, не суй свой сопливый нос куда не просят.
— Будешь крутить, — другого человека найдем. Сколько, спрашиваю?
— Не пугай, не из пужливых — знаешь. Не омману, полную меру получит.
Пиапон остался доволен обменом, русский торговец тоже, оказывается, понимает толк в пантах, материи и продуктов отпустил не меньше китайца. Если русский и за соболя, выдру, белку, лису будет так же щедро отпускать продукты, то Пиапону нечего больше иметь дело с болоньским торговцем, он будет отдавать всю добычу только русскому торговцу. Пиапон возвращался домой радостный.
«А Пота молодец. Молодец!» — думал он по дороге.
Пустовавший правый угол в амбаре заполнили мешками муки, крупы. Оглядывая висевшие связки юколы, занимавшие больше половины амбара, Пиапон мысленно подсчитывал, хватит ли этих запасов еды на' зиму или придется ранней весной отбирать у собак их корм — кетовые хребтины — и есть самим, как не раз случалось в прошлые годы. Беззаботная Дярикта не разделяла тревог мужа, она совершенно не думала о будущем, не подсчитывала запасов пищи, да и не умела подсчитывать, потому что в большом доме никогда не занималась подобным делом.
— Хватит еды, — твердила она. — Одни мы, не надо много.
Но Пиапон знал, нынешняя юкола недостаточно провялилась из-за частых дождей, пасмурных дней, может заплесневеть и стать непригодной в пищу. Он несколько раз напоминал жене, чтобы она довяливала некоторые связки юколы. Дярикта нанизывала на жердочки жирные брюшки, спинки, свернувшиеся, как куски бересты, бока и развешивала на сушильнях. В солнечные дни все сушильни в стойбище вдруг наполнялись довяливавшейся юколой, и к ним тянулись руки набегавшихся, проголодавшихся детей, подвыпивших, празднующих конец путины рыбаков; на них тоскливо смотрели десятки пар голодных собачьих глаз.
Проходил октябрь. Няргинцы ловили неводами выходивших из озер сазанов, толстолобов, верхоглядов, ремонтировали охотничье снаряжение: лыжи, нарты, самострелы. Пиапон в свободное от рыбной ловли время готовил себе новые самострелы.
В ноябре наступили настоящие холода, на Амуре и на протоках пошла шуга.
Скоро станет Амур, и охотники отправятся в тайгу, кто за соболем, кто белковать, а слабые старики начнут охотиться на енота, лису и колонка возле стойбища. Охотники группируются в артели по четыре-пять человек на один зимник. Артели чаще всего сколачивались из родственников, и только бездетные одинокие охотники примыкали к другим родам.
Холгитон Бельды с Гангой Киле были старые друзья, они уже давно промышляли вместе. В прошлые годы с ними вместе в зимнике жили Улуска с Потой, теперь Улуска уходил в тайгу с Баосой, а Поты и след простыл, поэтому Холгитон решил примкнуть к какому-нибудь соседу по охотничьему участку. Совершенно неожиданно для него жить с ним в зимнике согласился Гаодага Тумали с сыном Чэмче. Много лет Гаодага охотился вместе с Баосой — Холгитон не помнит, чтобы они жили в тайге врозь. А теперь разделились.
«Поссорились из-за Идари, — думал Холгитон. — Ох и зимник будет у нас — три рода вместе! А бывало, на нас с Гангой косо смотрели наши родственники. Теперь никто не удивляется, что в нашем зимнике будут жить Бельды, Кило и Тумали. Время все изменяет!»
Охотники собирались артелями и решали главный вопрос — делить добычу артели на каждого поровну или же каждый человек будет ловить только для себя. От решения этого вопроса часто зависела судьба только что сколоченной артели, но в Няги еще не случалось, чтобы добровольно собранная артель распадалась из-за того, что кто-то отказывался поделиться своей добычей с остальными. Наоборот, самый удачливый охотник без сожаления отдавал долю неудачнику, и тот без стыда брал ее. Законы таежных охотничьих зимников ненарушаемы.
Баоса тоже собрал совет мужчин большого дома, пригласил и Полокто с Пиапоном. Старик мог не приглашать их: тот, кто вышел из большого дома, терял все свои прежние права, а вместе с правами терял то охотничье и рыболовное снаряжение, которым он пользовался, будучи членом большого дома. В общем амбаре лежали лыжи, одежда таежников, самострелы, запасы боеприпасов, раньше принадлежавшие Полокто и Пиапону. Даже нарты, лодки, собаки и те оставались собственностью большого дома.
Баоса мог воспользоваться своей властью и оставить двух отщепенцев без крупинки пороха, без нарт, собак и лыж — попробовали бы они тогда податься в тайгу! Старик много размышлял над этим. Покинутый старшими сыновьями, оскорбленный ими, он хотел наказать их как можно строже, лишить охотничьих и рыболовных принадлежностей. Если бы Полокто с Пиапоном были бездетны, как Улуска с Дяпой, он не стал бы много раздумывать. Но когда приходили к нему внучки и внучата и начинали возиться на его коленях, на спине, щекотали голые пятки, теребили реденькую бородку, Баоса смягчался и как-то забывал о ссоре. Чаще приходили дети Полокто, и Баоса не догадывался, что старший сын нарочно посылает детей к нему.
Ойта помогал деду чинить сети, вычерпывал из оморочки дождевую воду, он постоянно находился под рукой Баосы, и тот вскоре так сблизился с внуком, что не мог обходиться без него в любом деле. С конца путины старик стал вынашивать мысль — забрать себе Ойту, передать ему все свое охотничье и рыболовное умение.
«Полокто хоть и злой, но мягче, податливей Пиапона, — думал старик. — Он должен согласиться, он отдаст Ойту мне. Да, должен отдать, потому что сам ушел от меня, не захотел на старости лет кормить. Ойта за него будет меня кормить». <
Но Баоса даже не намекал Полокто о том, что хочет забрать Ойту, он пока ласкал, добрым словом приучал мальчика к себе, по каждому самому незначительному случаю не забывал заметить, что Ойта остался единственным его помощником, значит, и кормильцем.
Совет мужчин впервые проходил вяло, Баоса больше курил, чем говорил. Но вялость эта была кажущаяся, на самом деле нервы у всех были натянуты, как тугая тетива самострела, все сидели потные, как будто выполняли тяжелую работу. Пиапон курил с невозмутимым видом, он был единственным человеком на совете, который спокойно мог выслушать любое решение совета мужчин: за месяц он изготовил более двадцати самострелов, есть у него ружье и боеприпасы, чудесный капкан, две любимые охотничьи собаки, которых он не оставил в большом доме, — самые необходимые помощники в тайге. Вот только нарты и лыж у него нет. Если отец не отдаст охотничью нарту, то он попросит у соседей женскую нарту, на которых женщины за дровами ездят, а лыжи изготовит в тайге, только они будут без меховой обшивки, потому что у Пиапона не было под рукой камуса. Но Пиапон привычен к лыжам, он силен и может зиму походить на лыжах без камусовой обшивки.
Полокто сидел возле Пиапона, он так пыхтел короткой трубкой, что лицо его совсем скрылось в табачном дыме.
«Должен вернуть, должен, — думал Полокто. — Не зверь же он, человек, отец, дед! Неужели не подумает о внуках!»
Полокто имел только ружье и острогу, к зимней охоте он не успел приготовиться: после путины ездил к невесте в Хулусэн, прожил там полмесяца и теперь надеялся только на великодушие отца.
Молодые охотники большого дома Дяпа, Калпе и Улуска, которого теперь всегда приглашали на совет мужчин, переживали за старших братьев, гадали, какое решение примет отец, и обдумывали, что они предпримут, если отец поступит несправедливо и не вернет братьям их охотничье снаряжение.
«Уйду к Пиапону, у него буду жить!» — храбрился Калпе, и от этой мысли у него мелко дрожали руки.
«Отец, будь справедливым! — мысленно умолял Дяпа. — Верни им снаряжение, если не вернешь, они еще больше разозлятся».
«Не зря молчит старик, сейчас должно что-то неприятное произойти», — думал Улуска, поеживаясь.
Слоистый сизый дым окутал охотников, скрывал их напряженные лица. Молчание продолжалось слишком долго.
— Зачем ты, отец, позвал меня? — наконец спросил Пиапон.
— На совет большого дома, — охотно ответил Баоса.
— Чего же тогда молчим? Дел у каждого много, а мы тут расселись.
— Об охоте надо поговорить, кто куда пойдет, какое место займет.
«Охотничье место!» — теперь только вспомнил Пиапон. Как он забыл об охотничьем месте, ведь он вышел из большого дома, следовательно, лишался участков большого дома. Охотничий участок — это главнее, чем порох и свинец, лыжи и самострелы. Если не будет участка, то где он будет ставить самострелы, где будет догонять, выслеживать зверей?
— Хочу знать, что решили отец Ойты и отец Миры, — продолжал Баоса. — С нами они или отдельно будут охотиться?
— Как же отдельно? Куда же мы отдельно? — заторопился Полокто. — У нас же ничего нет, все наше снаряжение находится в амбаре большого дома.
— Все, что находится в амбаре, это не ваше, вы вышли из большого дома, — жестко проговорил Баоса. — У вас ничего нет, а у большого дома все есть.
«Будет, отец, у нас тоже будет», — мелькнула мысль в голове Пиапона.
— Да, у большого дома все есть... — сказал он вслух. Баоса поднял голову, стараясь разглядеть лицо второго сына.
— ...даже долги торговцу, — закончил Пиапон.
— Задолжались мы, когда вы с нами жили, вместе ели муку, крупу.
— Я должен сообщить, отец, долг большого дома я но стал платить торговцу и не буду платить.
Дяпа сморщился, уныло уставился на Пиапона: «Ну зачем? Зачем ты себе же плохо делаешь, зачем злишь отца?» — говорили его глаза.
Полокто передернуло от слов Пиапона, он хотел уже наброситься на брата, но, случайно взглянув на отца и не заметив его возмущения, подумал: «Если Пиапон не платит долг большого дома, я тоже не буду платить. Это хорошо».
— Я больше других добывал пушнины, — продолжал Пиапон. — И я не должен никому.
— Не хочешь платить свою часть долга? — спросил Баоса.
— Какую часть? Ты что-то, отец, заговариваешься. Когда в большом доме долг делили на части?
— Теперь делим. Кету делили?
— Долг неделим. Я не буду платить, — твердо ответил Пиапон.
— Тогда я не хочу с тобой разговаривать, ты ничего из амбара большого дома не получишь. Отец Ойты, ты тоже не хочешь платить долг?
Полокто понял свою ошибку, ему надо было сразу возмутиться, обрушиться на Пиапона, но и сейчас не поздно исправить допущенную оплошность.
— Ты, отец Миры, негодяй! — закричал он. — Ты жил в большом доме, со всеми ел, пил. Ты всегда считался умным среди нас, где твой ум? Ты нечестный человек, ты негодяй! Нет, отец, я не отказываюсь платить долг, я буду платить. Я еще не потерял свою совесть...
— Пиапон, ты ничего не получишь. Уходи.
— Отец, лыжи я сделал сам, подбитый камус — это камус с убитого мною лося...
— Ничего не получишь! Уходи! — взорвался Баоса.
Калпе, весь мокрый, красный, вскочил на ноги.
— Я тоже ухожу, отец! — закричал он срывающимся голосом. — Ага, я буду у тебя жить, вместе пойдем в тайгу.
Баоса ухватился за полу халата Калпе, дернул что было силы и разодрал старую дабу.
— Рви, отец, это ты купил! На, рви! — Калпе снял халат и бросил под ноги. — Что ты делаешь, отец, у него же дети, что они будут есть? Я не женат, не имею детей, я буду ему помогать, потому ухожу из большого дома.
— Уходи! Уходи сейчас же, собачий сын! — Баоса ударил кулаком под зад Калпе и не помня себя закричал: — Уходите, все уходите!
Калпе спрыгнул с нар, не попадая ногами в домашние олочи, натянул их и выбежал из дома. Пиапон молча последовал за ним. Баоса сидел, уставившись в угол. Его душила злоба, голова гудела, как после длительной пьянки, и он медленно приходил в себя.
— Чего же ты нас гонишь, отец? — спросил Полокто. — Мы здесь при чем? Двое негодяев виноваты, а ты на нас на всех напустился.
Баоса не слушал старшего сына, он пытался разобраться в причинах скандала, вспоминал отдельные слова, но не мог сказать, из чьих уст они вылетели. Все перепуталось. Остро побаливало выше правого уха.
«Пиапон отказался платить долг. Панты продал, но долг отказался платить. Торговец просил заплатить весь долг? Зачем весь долг? Нас в большом доме четверо... Он больше всех добывал зверей... Ох, голова... Калпе ушел сам... детей его кормить».
А в это время Пиапон догнал младшего брата, привел в свою землянку и успокоил.
— Не знал, что ты такой вспыльчивый, — усмехнулся он. — Ты совсем как наш старший брат.
— А чего они обижают тебя? Почему не отдают лыжи, нарту, самострелы, одежду? Как же ты в тайгу пойдешь?
— Пойду, я все уже обдумал. Отец прав, все, что находится в его амбарах, — это его собственность, потому что он глава большого дома.
— Лыжи, нарты, самострелы — это же все твоими руками сделано!
— Сделал их для большого дома, я там жил.
— Неправда, ты сделал их себе!
— Калпе, ты еще молод, многого не понимаешь. Все, что говорил отец, — все правда. Понял?
— Нет, не хочу этого понимать!
— Опять горячишься? Все, что скажет отец, — это закон для нас, мы должны его слушаться, потому что он наш отец. Понял теперь?
Калпе не ответил.
— Куда бы ни ушел, где бы ни жил отец, он всегда останется отцом, запомни это. Пока жив он, мы должны его слушаться.
— Ты мне говоришь одно, а сам делаешь другое. Ты же ругался с отцом.
— Я ругался не с отцом, а с главой большого дома, который держал нас связанными по рукам и ногам. Ладно, хватит об этом. Ты, Калпе, должен вернуться к отцу, ты не должен его оставлять, он уже очень старенький...
— Не вернусь!
— Вернешься. Обязан вернуться. Кормить обязан.
— С какими глазами я вернусь?
— Со своими собственными. На твоем месте я бы вернулся сейчас же.
— Ну и вернись, кто тебя не пускает?
— Не злись, быстро состаришься. Не обо мне разговор. Отца надо пожалеть, ему недолго остается с нами ругаться. Хватит того, что Идари сбежала, мать умерла, мы ушли от него. Хватит. Не замечаешь разве, как он за лето и осень изменился? Он отец, и его надо жалеть. Обо мне не беспокойся, нарту достану или сделаю, самострелы есть, боеприпасы я купил у русского торговца, охотничий участок кто-нибудь уступит. Вернись к отцу, попроси прощения, он смягчится, простит.
— Что я ему скажу? Я же накричал... не помню, как получилось.
— Так и сознайся, что не помнишь. Ну, иди, успокой отца.
Калпе послушался брата, но без особой охоты поплелся домой. Оставшись один, Пиапон лег на нары и задумался. После разговора с отцом его больше всего беспокоило, что он остается без охотничьего участка. Пиапон знал, что нынче не будет белки, потому что не уродились кедровые орехи, значит, на белок никто не пойдет охотиться, беличьи угодья будут свободными. Но Пиапону и не нужны дешевые белки — ему нужны соболи, ценные соболи!
Не так-то просто зажить своим отдельным домом, в хозяйстве требуется всякая всячина, и все это можно приобрести только тогда, когда поймаешь много соболей. У большого дома только один соболиный участок, туда уже не пустят Пиапона. Может, ему примкнуть к Митрофану? Ванька Зайцев приобрел участок у одного охотника из стойбища Джари, хороший участок, соболиный, только согласится ли Ванька взять Пиапона в свой зимник? Переговорить бы с ним, да нельзя: не проедешь по протокам, шуга идет.
Заскрипела дверь на ржавых петлях. Вошел Дяпа.
— Ага, тебя отец зовет, — сказал он.
— Он же меня только что выгнал.
— А теперь вновь зовет.
— Перестал сердиться?
— Вроде бы перестал. Обругал нас, сказал, что мы все тебя одного не стоим.
«Это на него похоже», — подумал Пиапон.
— Как он встретил Калпе?
— Бросил ему разорванный халат и сказал, чтобы он сам заштопал.
— И все?
— Больше ничего не сказал, велел тебя позвать.
Пиапон вернулся на совет мужчин и как ни в чем не бывало занял свое место. Баоса даже не взглянул на него.
— Отец Ойты, отец Миры, можете из амбара забрать лыжи, одежду, сундучки с припасами, самострелы и нарты, — сердито проговорил он.
— Я, отец, хочу с тобой охотиться, — заявил Полокто.
— Кто тебя гонит, охоться.
— Ойту с собой возьму, будет нашим кашеваром.
— Что ты думаешь, отец Миры? — Баоса опять не взглянул на Пиапона.
— Мальчик уже большой, пусть привыкает к тайге, — ответил Пиапон.
— Не о том спрашиваю! Будешь с нами охотиться или с другими в тайгу уходишь?
— Возьмете — пойду, не возьмете — не буду навязываться.
— А сам хочешь вместе с нами быть?
— Не от меня это зависит, от тебя зависит, отец.
— Ты мой сын, потому не могу тебя гнать. Живи с нами.
— Вот хорошо! Рядам будем спать, — обрадованно прошептал Калпе.
— Отец, надо сразу договориться — делиться будем добычей или нет, — сказал Полокто. — Потому я это говорю, может, кто не захочет давать долю добычи Ойте, есть же у нас умники, которые и долга-то не хотят платить.
Слова Полокто больно задели Пиапона — это был увесистый камень, и он попал по назначению.
— Да, я отказываюсь делиться добычей и твоей добычи не возьму! — воскликнул Пиапон.
У Баосы красные пятна пошли по лицу, он запыхтел трубкой и скрылся в сизом дыму.
— Ты будешь есть из нашего котла, будешь есть стряпню Ойты! — кричал Полокто.
Баоса надел домашние олочи и вышел на улицу. К нему подбежали собаки, виляя пушистыми хвостами; подполз, смешно перебирая толстыми лапками, пузатый щенок.
— Ах ты, пройдоха! Ползаешь? — прошептал Баоса и пнул щенка. Щенок отлетел к сваям сушильни на добрых пять шагов, стукнулся головкой о сваю и жалостно завизжал от боли. Подбежала мать и начала лизать его розовый животик с реденькими мягкими волосиками. Почувствовав ласку матери, щенок завизжал еще жалостливее, еще слезливее. А мать продолжала его лизать шершавым языком.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Мэнгэнские тони были намного богаче, лучше, чем коса ниже Малмыжа, — это знал Американ и все члены его артели. Если бы Американ ловил кету на мэнгэнских тонях, то он поймал бы вдвое больше, чем на малмыжской косе. Но теперь Американ не жалеет, что мало добыл кеты, наоборот, доволен, что принес малый барыш русскому торговцу. Американ давно выучился русскому языку и первое время даже с охотой разговаривал по-русски, но спустя год объявил, что забыл его начисто. Договаривался он с торговцем Терентием Садовым через переводчика Гайчи Дигора. Условия русского торговца ему показались приемлемыми, артель должна была хорошо подзаработать. Американ с небывалым для него усердием принялся за лов кеты, артель его каждый день добывала больше других неводчиков. При сдаче засольщикам кеты глава артели присутствовал сам, подсчитывал, сколько рыбин вмещается в объемистых бочках, и делал на них только одному ему понятные знаки. Когда Салов принимал бочки у засольщиков, он по надписям мастеров знал, сколько кетин в бочке; цифры всегда совпадали со знаками Американа, и глава артели оставался доволен торговцем.
«Не все торговцы обманщики, есть среди них честные люди», — думал он.
Однажды Американ приехал в Малмыж как раз в то время, когда Терентий Салов сдавал бочонки с соленой кетой высокому жилистому человеку с суровым обветренным лицом. Человек этот приехал на железной лодке.
— Ларион Лександрыч, уговор дороже денег, уж уговорились — будем до конца честны, — говорил Салов, заглядывая в глаза высокого. — В розницу, только в розницу.
— Оптом, — прогудел высокий.
Американ подошел к ним, прислушался, но, к своей досаде, не мог понять, о чем говорят торговцы. Салов заметил Американа, спросил:
— Зачем приехал?
Американ промычал в ответ, поднес пальцы ко рту и зачмокал губами.
— За едой, куревом явился. Ладно, потом. — Салов повернулся к высокому: — Бочонки разные, Ларион Лександрыч, — поглядите, разные. В одном сорок, в другом сорок пять...
— Мы договорились, бочонки должны быть стандартны. — Высокий сильно нажимал на звук «о», и это сразу заметил Американ, но по-прежнему он не мог разобраться в сущности разногласия торговцев.
— В розницу, только в розницу.
— Оптом. Бочки только считаю.
— Ну, тогда с богом, Ларион Лександрыч, найдутся другие, не осенью, так весной солонинка будет еще в лучшей цене. А до весны в сарае подержу. С богом.
Терентий Иванович демонстративно повернулся к Американу, взял его под руку.
— Обожди, Терентий Иванович, может, икорку тогда отдашь, те бочоночки-то стандартные.
— Икорка, Ларион Лександрыч, находится в пузе самки, куда самка — туда за ней и икорка.
— Бог с тобой, Терентий Иванович, ты меня по миру без нитки пускаешь.
— Не те слезы. Бочонки цену имеют от числа кетин. Икорка стоит...
Американ не поверил своим ушам. Салов назвал такую цену, какую он никогда не слышал; кетина, за которую торговец платил рыбакам копейки, теперь оказывалась в три раза дороже, маленький бочонок икры стоил столько, сколько не заработает вся артель Американа за путину.
«Что же это выходит? Как это выходит? Почему кета, у которой только вынули внутренности да обсыпали солью, вдруг так вздорожала? А икра? Мы же совсем ее не считали. Почему она такая дорогая? — Американ зажмурил глаза, и перед ним заискрились янтарные зернышки икры, засаливаемой мастерами. — Соленая кета много дороже свежей, икра ценится, как соболь или черно-бурая лиса. Что я говорю! Что там соболь, что чернобурка — икра дороже!»
Американ вернулся на стан и с помощью Гайчи начал допытываться у засольщиков, но те юлили и не говорили правды. На следующий день Американ с Гайчи вернулись в Малмыж. Американ начал переговоры без всяких предисловий, без обыкновенно принятых любезностей.
— Почему ты нам за икру не платишь деньги? — перевел его слова Гайчи.
— Я у вас не икру принимаю, я принимаю кету, — ответил Терентий Иванович.
— Ты должен нам и за икру платить.
— Такого уговора не было.
— Тогда за кету дороже плати.
— Об этом разговору не может быть.
— Но хочешь разговаривать — не надо. Сейчас же заплати за всю рыбу сполна.
— Это мы могем, почему бы не заплатить? Сейчас.
Терентий Иванович, не подозревая ни о чем и весело мурлыкая под нос, расплатился с Американом за всю пойманную рыбу. Он был в приподнятом настроении после вчерашней состоявшейся-таки успешной сделки и выдал еще рыбакам табаку и чаю сверх положенного. Получив деньги, табак, чай, Гайчи передал торговцу, что артель отказывается ловить ему рыбу, что она сегодня же свертывает хомараны и уезжает домой. Салов сперва принял слова Гайчи за шутку, но, когда переводчик повторил, заволновался:
— Ребятки, Американ, ты что же это, а? Да как же уговор? Вы же честные люди, вы не можете отказываться от своих слов.
— Ты обманываешь нас, на обманщика мы не будем ловить рыбу.
— Цена не подходит? Нет, ребятки, цена что надо, высокая.
— Ты обманщик.
— Да кто это сказал? Вы честный народ, я с вами, ребятки, по-честному.
Но как ни уговаривал Салов, Американ стоял на своем. Тогда торговец поднял цену на кету. Американ, ожидавший этого, стал требовать, чтобы он заплатил по этой цене за всю выловленную рыбу. Салов отказался, и Американ вернулся в Мэнгэн.
Как только встал Амур, Американ ушел на Сихотэ-Алинь не старой дорогой предков, через тайгу, а по Амуру и по горной реке Анюй. Он шел позади других амурских охотников, шел не спеша, останавливался в каждом стойбище, посещал лавки и русских и китайских торговцев, приценивался к товарам, но, к неудовольствию приказчиков, ничего не брал. Все увиденное и услышанное запоминалось, откладывалось в голове.
В тайге Американ появился тогда, когда все охотники выставили самострелы, ловушки и успели по нескольку раз обойти их; самые удачливые уже сушили первые шкурки соболей. Одним из таких счастливчиков был Пиапон, он поймал своей странной железной ловушкой — капканом — рыжего, как колонок, соболя.
Капканом Пиапона охотники Нярги любовались только потому, что он был железный: одни удивлялись простоте устройства капкана, вторые, как дети, восторгались, когда ловушка захватывала палку, будто пасть собаки, третьим нравилась стальная пружина, потому что из нее мог получиться очень хороший охотничий нож. Но в промысловых качествах капкана все сомневались — одни говорили, что запах железа отпугнет зверя: «Наши самострелы в сторонке от тропы стоят и то отпугивают запахом, а эта железина будет лежать под самым носом, совсем отпугнет», — утверждали одни; другие предполагали, что дужки капкана разобьют кость ноги, и тогда зверь сам перегрызет ногу и уйдет.
Капкан не внушал охотникам доверия, и Пиапон стал даже колебаться — брать его в тайгу или оставить дома, чтобы жена ловила крыс и мышей в новом амбаре, куда они уже успели проникнуть. Но в последний момент перед выездом Пиапон приторочил капкан к нарте. И вот первый, хоть и самый захудалый соболь попался как раз в капкан! Не зря, выходит, Пиапон взял его с собой.
Весть о том, что Пиапон поймал первого соболя своей диковинной железной ловушкой, в два дня облетела все ближайшие становища охотников, и многие забредали в аонгу Баосы, чтобы посмотреть на пойманного соболя. Американ ночевал в аонге Холгитона, битком набитой соседними охотниками, пришедшими послушать сказки Холгитона, от них и услышал он о соболе Пиапона.
Аонга — охотничий шалаш, зимник.
На следующий день он пришел в аонгу Баосы. У Баосы все было добротно и крепко построено. Американ знал его фанзу, видел его амбары, сушильни юкол, а теперь перед ним стояла аонга — бревенчатое теплое зимовье.
— Здравствуй, дака, — поздоровался Американ, увидев сидящего перед очагом Баосу. — Ох, аонга у вас добротная, долго будет стоять.
— Будет стоять, если кто не развалит, — ответил Баоса.
— Кому и зачем разваливать? — засмеялся Американ. Про себя же подумал: «Ссорятся, потому беспокоится».
Возле очага сидел Ойта, помешивая длинной палкой варево в котле. Ароматный запах кабаньего мяса, отдающий всеми запахами лесных трав, желудей, кедровых шишек, приятно защекотал нос Американа.
Солнце укрывалось за высокими гольцами на западе, и на тайгу опустились сумерки.
— Поздно возвращаются молодые, — сказал Американ, подсаживаясь к очагу и закуривая поданную Ойтой трубку.
— Ноги молодые, далеко бегают. А ты как к нам попал?
— Мимо проходил, добираюсь к своим местам.
— Место, место... — проворчал Баоса. — Скоро никто никакого места не будет соблюдать, — куда пойдешь?
— Соболи везде есть...
— Много понимаешь ты! Где соболи? В мою молодость их десятками штук ловили, великие охотники из соболиных пяток халаты шили, этим халатам цены не было. А теперь попробуй! «Везде есть»! Нет, не везде! Мало стало соболей, скоро их совсем не будет.
«Великие охотники! — с иронией подумал Американ. — Ловили соболей, за долги отдавали шкуры, а пятки себе оставляли и опять влезали в долги», — Американ чуть не засмеялся. Будь его собеседником кто другой, не Баоса, он непременно засмеялся бы.
— Чего замолчал! Где видел много соболей? Может, покажешь место? — спросил знакомым резким голосом Баоса.
— Надо по тайге пройти, посмотреть...
— По чужим местам хочешь пройти?
— Порасспросить... — промямлил Американ.
— «Порасспросить...» Будто охотники соболей за хвост держат, чтобы ты их считал. Мы знаем, сколько на наших ключах соболей, да тебе не скажем.
«Чего он так кричит на меня, что я ему, сын, дочь? — думал Американ. — Зря я приехал сюда. Росомаха, а не старик ты, Баоса!»
Баоса еще долго мучил Американа расспросами. Он походил на женщину, которой наскучило в одиночестве, и вот, встретившись со знакомой, не может наговориться. Баоса был прежний Баоса — запальчивый, злой, крикливый.
С наступлением сумерек почти одновременно у аонги появились два охотника. Услышав скрип снега под лыжами, лай собак, Баоса замолчал, а когда вошли Пиапон с Калпе, он заткнул рот трубкой и больше не проронил ни слова до самого ужина.
— Э-э, Американ, да ты как попал к нам? Ты что, по всей тайге бродишь? — спросил Пиапон.
— К тебе пробираюсь.
— Ври больше! Бродишь по тайге, су богатства ищешь, знаю я.
— Правда, к тебе шел, — без особого восторга от встречи, косясь на нахохлившегося Баосу, отвечал Американ.
— Я недавно слышал, будто тот, кто найдет гнездо кукушки, станет самым удачливым охотником. Хочу я его найти. А ты не кукушкино гнездо ищешь?
— Нет.
— Ты почему такой невеселый? Не смеешься, как раньше, ничего не рассказываешь, в лицах не показываешь?
— Устал, отдохну, — может, покажу.
Прихлебывая горячий чай, Пиапон расспрашивал Американа, сам рассказывал о своем капкане, потом опять вспомнил про талисман.
— Еще, говорят, есть маленькая змейка, но она сама приходит, захочет тебя сделать удачливым охотником — к тебе придет, захочет меня — ко мне приползет. Да что я рассказываю, ты же ищешь талисман богатства!
— Ищу и скоро найду, — ответил Американ.
— Кто-то обещал, что ли? — усмехнулся Пиапон.
— Знаю, где найти.
В аонгу вернулись Дяпа, Полокто, Улуска, и сразу стало весело, зимник наполнился табачным дымом, шутками и смехом. Американ уже не косился на лежавшего возле очага Баосу, рассказывал о всяких смешных приключениях, изображая, как что произошло. Охотники держались за животы, ложились в изнеможении, обессилев от смеха. Американ был прежним молодым весельчаком.
В этот вечер охотники легли спать как никогда поздно. Американ лег рядом с Пиапоном.
— Говорят, ты колонка поймал? — спросил Американ.
— Колонок, и вправду колонок, — улыбнулся в темноте Пиапон.
— А из колонка хорошего соболя делают.
— Как делают?
— Пачилаори знаешь что такое?
— Пачилаори? Что-то не слышал.
— Ты завтра рано уходишь?
— А что?
— Хочу тебе показать кое-что.
— Завтра у меня малый круг, я его за полдня прохожу. Могу остаться ненадолго.
Утром Американ проснулся, потому что правый бок его так нагрелся, что он спросонья испугался и начал охлопывать себя руками. Рядом засмеялись охотники.
— Побольше бы возле жены нежился, совсем бы отвык от очага, — смеялся Полокто.
Подкрепившись мясом, выпив два чайника чаю, охотники один за другим ушли, кто проверять самострелы, кто выслеживать соболей, кто побежал по следам кабанов, чтобы заготовить мяса. Остались только Американ с Пиапоном да Ойта, исполнявший обязанности кашевара. Узнав, что Пиапон но скоро собирается уходить из аонги, Ойта оделся, взял силки из конского волоса и, встав на лыжи, убежал в тайгу ставить их на рябчиков. Долго сидели Американ с Пиапоном, коротали время так, как коротают два неразговорчивых напарника в одном зимнике. Американ был задумчив, молчалив, будто вечером израсходовал весь запас веселости, и Пиапон, от рождения неразговорчивый, ждал, что скажет сосед. Наконец рассвело, потом выглянуло желтое зимнее солнце. Американ взял в руки соболя, усмехнулся:
— Будет настоящим.
Он попросил Пиапона найти немного бересты, а сам срезал семь прямых веточек-прутьев. Когда Пиапон поджег бересту, он закоптил все прутья до черноты. Отложив прутья, еще раз внимательно осмотрел шкурку соболя.
— Рыбьим жиром или еловой смолой? — спросил он.
Пиапон не знал, о чем тот спрашивает, и ничего не ответил.
— Можно кончики шерсти смазать рыбьим жиром, — начал объяснять Американ. — А можно еловой смолой, только запомни — еловой, если возьмешь смолу пихты или кедра, то у тебя шкурка голубой или зеленой станет.
Пачилаори — ударять (дословно).
— Нет, не надо, Американ, пусть колонком останется, — запротестовал Пиапон, наконец догадавшись о намерениях приятеля.
— Не бойся, я тебе не испорчу шкурку.
— Ты хочешь сажей зачернить?
— Тебе же лучше, дороже пойдет, больше товаров получишь. Ладно, давай рыбий жир.
Американ осторожно прикасался распушенной шкуркой к ладони с рыбьим жиром так, чтобы кончики ворсинок залоснились от жира. Когда эта часть работы была закончена, он взял соболя за головку и начал стегать по пушистой шкурке закопченными прутьями. Пиапон смотрел на соболя, который на его глазах из рыжего превращался в первосортного черного, и удивленно молчал. Семь закопченных прутьев сделали свое дело — соболь теперь имел свою настоящую цену, которую давали торговцы.
— Ну, как? — удовлетворенный сделанным, несколько бахвалясь, спросил Американ.
— Хорошо, — не скрывая восхищения, ответил Пиапон. — Только я боюсь, сажа может отстать или следы будет оставлять на руке.
— На потри, сам увидишь, отстает или нет. Какой недоверчивый.
Пиапон взял шкурку, мял ее в руке, но сажа не прилипала.
— Ну, как?
— Не отстает.
— Да нет, как, спрашиваю, цвет?
— Цвет самый хороший.
— Вот-вот. Сам задумаешь делать, смотри не пользуйся больше чем семью палочками, иначе шкурка будет с синеватым оттенком, а ты знаешь — таких соболей нет на земле. Запомни, много жиру употреблять тоже нельзя, потому что отлежится шкурка и появятся желтые пятна. Запомни все, Пиапон, да никому другому не говори. Хорошо?
— Сказать-то не скажу, но только это обман.
— Какой обман?
— Просто обман, торговцев обманываем.
— Они тебя больше обманывают.
— Я этого не знаю и их обманывать не хочу. Этого соболя возьму, хоть и стыдно будет его торговцу отдавать.
— Эх, ты, Пиапон, храбрый ты человек, думал, ты меня поймешь. Торговцы нас обманывают, и мы должны их обманывать.
— Кто как хочет, но я не буду обманывать. Этого соболя я возьму, просто интересно, года два-три продержится твоя сажа или нет. Все же ты ловко это придумал...
— Не я придумал. Хитрые охотники давно так перекрашивают всех соболей. Ладно, не хочешь обманывать торговцев — твое дело.
Американ попрощался, запряг в нарту охотничью собаку, впрягся сам и пошел, широко наступая лыжами, под густую хвою древних кедрачей. Собака бежала перед ним по целине, легкая, пушистая, на четырех ногах и проваливалась в рыхлом снегу, а он шел на двух ногах, и мягкие снежинки только скрипели под его тяжестью.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
От аонги Баосы до аонги Холгитона пути — одно солнце, но Баосу ни разу еще не навещали соседи. Между тем сыновья Баосы уже несколько раз ночевали у Холгитона, слушали его длинные, продолжавшиеся по нескольку ночей подряд, сказки. У Холгитона всегда было людно и весело. С наступлением сумерек то с одной стороны, то с другой подходили молчаливые охотники, вваливались в аонгу, с жадностью проглатывали несколько кружек чаю, курили, и их сразу покидала сидевшая на плечах, как хищница-рысь, усталость. Холгитон сам возвращался усталый, еле передвигая ноги, входил в зимник, ему, как и своему отцу, помогал снимать обувь самый младший в аонге Чэмче. Чэмче подавал ему горячий чай, еду, он это обязан был делать, как самый младший. Но если оказывались рядом рано прибежавшие молодые любители сказок, то Чэмче отдыхал — молодежь ухаживала за Холгитоном, как за своим дедом.
Почетен сказитель в дремучей тайге.
Чэмче было намного легче, чем кашеварам других зимников: сам он почти не заготовлял дров, не носил воду, за него это делали поклонники Холгитона, а он готовил только еду, заваривал чай.
Холгитон медленно и много ел, с удовольствием чувствуя, как отощавший за день желудок наполняется тяжелой и приятной пищей. Он, как и все нанай-охотники, питался только утром и вечером. С собой он брал только жестяную кружку, в которой заваривал чай или травы, когда одолевала усталость. Зато вечером он прежде всего пил чай, пил долго, с причмокиванием, с присвистыванием, потом после короткого отдыха принимался за основную пищу, и только почувствовав большую тяжесть в желудке, легкое головокружение, отодвигал остаток еды. Отдыхал. Курил. А любители сказок с нетерпением ждали и всегда бывали вознаграждаемы за терпеливость. Холгитон рассказывал, пока веки не смыкались сами, пока язык не начинал плести куролесицу, тогда слушатели будили его окриком «кя!». Проснувшись, он вновь продолжал вести героев за неведомые моря, за неизмеренные земли. Спал он три-четыре часа, просыпался, снова набивал желудок едой и становился на ноги.
Охотники аонги были довольны промыслом, на их угодьях вдоволь кормилось соболей, заметили они следы нескольких перебежчиков из соседних ключей. Были они довольны и добычей, хотя до конца сезона оставался еще целый месяц. Месяц — это большой срок. Но не пришлось им охотиться на этих богатых угодьях. Однажды — это случилось в середине месяца агдима — января — Ганга прибежал в зимник раньше Чэмче, который обязан был являться раньше всех других. Ганга был чем-то напуган и курил трубку за трубкой перед жарким очагом. Он заговорил только тогда, когда явились все охотники.
— Плохи дела, я чем-то прогневил Амбана, — сказал он.
— Амбана? — переспросил Чэмче.
— Амбан пересек мою охотничью тропу. Что теперь делать?
— Помолиться надо было, — сказал Холгитон.
— Как же не молиться? Как увидел его след, я бросился на колени и долго молился. Не маленький, понимаю.
Холгитона не очень встревожила встреча Ганги с тигром, но напуганы были Гаодага с Чэмчой. На коротком совещании решили подождать дня три-четыре — не уйдет ли тигр с охотничьего угодья аонги. На следующий день повалил густой снег, засыпал все тропы и следы, надел на великаны-кедры белые воротники. Потом, как и следовало ожидать, запуржило — три дня неистовствовал ветер. А когда на четвертый день Ганга пошел проверять самострелы, он опять наткнулся на след тигра. Он бросился ниц и заговорил:
— Ама-Амбан, как-нибудь пожалей меня, не отбирай у меня мою охотничью тропу. Я беден совсем, от меня дети ушли, отказались на старости лет кормить, сам себе добываю пищу. Пожалей, Ама-Амбан! Ты сильный, ты могучий, ты Хозяин тайги, и ты везде найдешь место для охоты. Не отбирай у меня место.
Амбан — тигр.
Ама-Амбан — отец-тигр.
Помолившись, Ганга вернулся в зимник, он не осмелился переступить след Хозяина тайги и не проверил самострелы. В зимнике сидели испуганные отец с сыном; их самострелы стояли в разных распадках, но у обоих тропы были тоже перерезаны следами тигра.
— Отбирает наше место, — сказал Гаодага.
— Да, не хочет, чтобы мы здесь охотились, — подтвердил Ганга.
Перед сумерками вернулся Холгитон.
— У вас тоже пересек? — переспросил он, выслушав Гангу. — Выходит, Он затропил весь участок аонги. Теперь мне ясно, почему к нам не приходят соседи.
После чая и плотной еды он начал рассказывать:
— Нас, из рода Бельды, много, но мы не родственники, как думают некоторые, фамилии только одинаковые. Каждый род Бельды появился по-разному, мы, Чолачинские и Соянские, вышли от Тигра, это знают многие. — Холгитон сплюнул, попыхтел погасавшей трубкой и, когда она разгорелась, продолжал: — Была девушка красивая-прекрасивая, какую на земле редко встретишь. И ушла она в тайгу с отцом. Отец уходил на охоту, а она в зимнике оставалась, готовила еду, зашивала дыры в одежде отца, да мало разве найдется для женщины дела. И однажды пришел к ней Амбан, сам открыл дверь и лег на пороге. А девушке в это время захотелось сходить по малой нужде, да как быть? Как выйти на улицу? Наконец, когда стало невтерпеж, она осмелилась и вышла на улицу, перешагнув через Амбана. Уже на улице она спохватилась, думает, что же она сделала? А что, если Амбан мужчина? Как она посмела перешагнуть через мужчину? Долго стояла девушка, вся замерзла. Зашла в зимник, опять перешагнула через Амбана. А через девять месяцев она родила сына. Амбан теперь часто приходил к ней, ласкал ее и сына. Он даже помогал отцу на охоте. От ее сына и пошли мы, Чолачинские и Соянские Бельды. Уже много лет Амбан никогда не притеснял нас на охоте, не сгонял с мест, бывало, даже сам уступал свою охотничью тропу. Когда охотники не могли добыть мяса на еду, делился своей добычей. Когда мы справляли касан, он приходил на могилу провожаемого и лежал там. Однажды наш Чолачинский Вельды не мог поделить охотничье место с одним Ходжером. Долго они спорили, род с родом должны были столкнуться, да помешал тому наш отец Амбан — он убил неуступчивого Ходжера. Да, наш отец — Амбан, потому мы говорим: «От первой звезды мы родились, а Амбан наш кормилец». Отец-кормилец узнал из нас четверых своего сына, у вас у всех пересек он тропу, а по моей тропе прошел рядом, но нигде не пересек. Я думаю так: нам надо сейчас помолиться Ему, попросить, чтобы Он но отбирал у нас участок. Помолимся все.
Касан — религиозный обрядовый праздник, окончательное отправление души умершего в буни.
Все четверо охотников долго и неистово молились Амбану, умоляли на все лады, каждый по-своему выкладывая свою просьбу: Холгитон клялся, что он Его сын, что он Чолачинский Бельды; Ганга плаксиво жаловался на бессердечных сыновей; Гаодага рассказывал, что дочь отдал без тори, а теперь сыну надо покупать жену, а соболей нет на тори; Чэмче вторил отцу, говорил, что ему стыдно жить без жены, когда все его сверстники уже женаты и даже имеют детей.
Но на следующий день охотничьи тропы были пересечены свежими следами тигра. На этот раз и Холгитон вернулся раньше полудня.
— Плохо, рассердился Отец-кормилец на меня, — сказал он, — сидел на моей тропе, хвостом бил по снегу. Разгневался...
— Ты видел Его? — шепотом спросил Чэмче.
— Не показывался, следы только оставил. Плохо, сгоняет он нас, На меня, видно, сердится за что-то...
— Что же будем делать? — спросил Ганга, сделавшись совсем маленьким от испуга.
— Сам не знаю, что делать, — хмуро ответил Холгитон.
— Сидеть в аонге и ждать, когда он нас отсюда выгонит, нехорошо, — сказал Ганга.
— Нельзя ждать.
— Грешно.
— Как же самострелы? Не вернет Он? — спросил Чэмче.
— Не знаю. Может, попросить, чтобы самострелы разрешил снять? — неуверенно предложил Ганга.
— Правильно, хоть самострелы пусть вернет, — поддержал Гаодага.
Вечером опять охотники, на этот раз в один голос, уговаривали Амбана разрешить только снять самострелы. Ночью испуганно скулили собаки, скребли стены шалаша. Наутро охотники встретились со свежими следами тигра в ста шагах от зимника. Теперь было все ясно — Амбан не хотел уступать места, не хотел возвращать самострелы, он требовал, чтобы сейчас же охотники покинули зимник и охотничий участок. Мгновенно были разбросаны хвойные стены зимника, собраны вещи и уложены в нарты, запряжены собаки, надеты лыжи — и охотники, не оглядываясь, покинули зимник. Впереди шел Гаодага, прокладывая тропу, за ним Чэмче, потом Холгитон. Замыкал Ганга, он все погонял собаку, и так тащившую нарты изо всех сил, оглядывался и смотрел расширенными от ужаса глазами на оставляемую тропу. К полудню беженцы вышли на охотничий участок Баосы и остановились отдохнуть и попить чаю.
— Что будем делать? — спросил Холгитон, немного успокоившись после кружки обжигающего чая.
— Что делать без самострелов? Домой пойдем, — ответил Ганга.
— В середине зимы домой? Что ты, Ганга?
— Что, что! Чем ловить соболей?
— Ружье у тебя есть?
— Это ты еще крепкий, можешь на лыжах догонять соболей, а я не могу.
Гаодага не принимал участия в споре, он, задумавшись, прихлебывал чай. Чэмче без приглашения не вмешивался в разговор старших.
— Надо подумать, чего горячиться, — наконец проговорил Гаодага. — Успокоимся, подумаем, а пока надо думать, где переночевать.
— На снегу переночуем, — заявил Ганга. — Вон орочи возле костра на хвойной подстилке ночуют.
— Я тоже так ночевал, — вставил слово Чэмче.
— В чей-то зимник надо добираться.
— Самый ближний — Баосы, туда пойдем, — сказал Холгитон.
Гаодага не ответил, ему не очень-то хотелось встречаться с Баосой. После разговора на кетовой путине на могиле Тэкиэна он не перекинулся и словом с соседом: крепко тогда обидел его Баоса. Гаодага решил больше не говорить с ним об Идари, о тори, да и лучше, когда с ним меньше сталкиваешься. Поэтому он так неохотно согласился идти в зимник Баосы. После некоторых поисков, в сумерках подошли они к зимнику. Залаяли собаки. Из аонги вышел высокий человек, лица его прибывшие не разглядели, но по росту узнали Пиапона.
— Что случилось? Почему снялись с места, домой уходите? — спросил Пиапон, узнав односельчан.
— По тайге разъезжаемся от безделья, — ответил Холгитон.
Услышав на улице знакомые голоса, Баоса приказал Ойте заварить чай для гостей, сварить мясо. Когда гости зашли в зимник, он поздоровался с ними, усадил всех возле себя и подал длинную продолговатую коробку с табаком. Он осторожно начал расспрашивать, почему снялись с места — перекочевывают на лучшие угодья или собрались домой.
— У нас несчастье, отец Полокто, — отвечал за всех Холгитон. — Нас прогнал с места Амбан.
— Как мы Ему ни молились, — подхватил Ганга, — а Он даже самострелы не разрешил снять.
— Отец, как же так, ты самострелы все оставил там? — спросил Улуска.
— Когда Он выгоняет, что сделаешь?
— Да, беда, — вздохнул Баоса. — Откуда Он пришел? Один или вдвоем?
— Ничего не успели рассмотреть, — ответил Холгитон. — Он как пришел, так и потребовал, чтобы мы ушли.
В этот вечер охотники двух зимников обдумывали, как дальше быть беженцам. Одно было ясно, что без самострелов, ловушек им нечего делать в тайге, никто из них, кроме молодого Чэмче, не может целыми днями преследовать соболей, чтобы подстрелить из ружья или, загнав в расщелину скалы, в нору, поймать сеточкой. Но где достать в тайге самострелы? Луки для них и те требуют не одного дня работы, а что касается железных наконечников, то нечего даже и думать где-либо их достать. Кроме снаряжения, беженцам надо охотничье угодье.
— Место есть свободное, хулусэнские не пришли, их участок свободен, — сказал Гаодага. — А вот самострелы — их нигде не достать. Придется нам поохотиться на лосей, на кабанов и везти мясо домой.
— А как мука, крупа, сахар? — спросил Баоса.
Баоса не знал, сколько кто из беженцев добыл соболей, об этом не принято расспрашивать и говорить в тайге: беженцы тоже не спросили, сколько добыто соболей в аонге Баосы. Но о чем спросил Баоса — все хорошо поняли.
— Ничего не сделаешь, еще в больший долг придется влезать, — ответил Гаодага.
— Не везет нам, — слезливо подхватил Ганга.
— Нельзя так, мы же нанай, из одного стойбища! — вдруг взорвался Баоса. — Чего вы раскисли? Вы в беду попали, и мы должны помочь, завтра посидите, отдохните, а мы снимем часть самострелов. Гаодага, я тебе отдаю свои самострелы, двадцать пять штук хватит?
Гаодага встретился с горящими глазами Баосы, улыбнулся:
— Хватит, куда мне больше?
— Дяпа, ты отдай Чэмпе, Калпе — Холгитону, а ты, Улуска, — отцу! Завтра надо обойти все самострелы, те, которые стоят на плохих тропах, снимайте и тащите сюда.
— Обожди, отец, почему только вы отдаете самострелы? — спросил Пиапон.
— Я говорю только тем, кто живет в большом доме, — резко ответил Баоса.
— Я тоже могу отдать свои самострелы!
— Это твое дело.
В зимнике стало сразу тесно; когда начали укладываться спать, пришлось молодым потесниться к холодным стенам, и уступить теплые места старшим. Улуска уложил отца рядом с собой и укрылся одним одеялом, а Ганга нарочно не стал лезть в спальный мешок, чтобы полежать с сыном.
— Как охотишься? Удачливо? Как относятся к тебе? — спрашивал он сына шепотом.
— Хорошо, отец, как никогда удачливо, — отвечал Улуска.
Баоса не слышал разговора отца с сыном, он был весь поглощен своими мыслями. Короткая перебранка со старшими сыновьями опять заставила его задуматься. Ползимы он живет и охотится со всеми сыновьями и никак не может привыкнуть к тому, что они отделились от него, что Пиапон теперь добывает пушнину только себе. Старик не мог этого простить старшим сыновьям и ни разу не обращался к ним ласково — он или кричал, или отмалчивался. Про себя все еще лелеял надежду, что ему удастся вернуть их в большой дом, все еще не соглашался с тем, что его большой дом, большая семья распались. Когда Полокто согласился отдать ему старшего сына Ойту, Баоса по-стариковски обрадовался до слез. За этой уступкой Полокто он ждал новую уступку — возвращение старшего сына в большой дом. Он знал второго сына, знал его характер и не пытался его уговаривать, но на Полокто он воздействовал, как мог: увещевал, проклинал, пугал и обещал выполнить все его просьбы. Баоса знал: то, что требовал Полокто, при желании нетрудно выполнить. Если Пиапон не вернется, то Полокто останется за де могдани, когда найдется невеста Калпе и он женится, то пусть Полокто берет хоть четвертую жену — это его дело. Но Баосе хотелось вернуть в большой дом второго сына, упрямого Пиапона. Как его вернуть? Над этим и ломал голову Баоса.
«Придется отобрать все сети, невод не уступать, лодки не давать, — размышлял старик. — Посмотрим, чем станет детей своих кормить. Пока что у тебя, Пиапон, нет ничего своего, кроме землянки, амбара, сушильни, остроги и ружья. Оморочка — большого дома, лодки, невода, сети — все наше. Нарта, самострелы тоже наши. Я все могу отобрать, захочу — и все отберу!»
Кажется, обменялись всего несколькими словами и сын не сказал ничего раздражающего, а Баоса не мог уснуть и думал о сыновьях, о большом доме. Баоса не понял, долго спал или нет, но вдруг почувствовал прилив бодрости, сон улетучился, — значит, скоро утро. Он вышел на улицу, взглянул на небо — небо было затянуто серой мглой. Но Баоса без звезд, по себе знал — подошло время подъема. Он разжег очаг, поставил чайник. Проснулись Гаодага, Ганга, Холгитон и за ними молодежь.
К вечеру этого дня беженцы получили по двадцать — двадцать пять самострелов, а на следующее утро ушли на новое охотничье угодье. Перед отъездом Гаодага остался вдвоем с Баосой.
— Попал бы ты в такое положение, я бы тоже не оставил тебя без помощи, — сказал Гаодага.
— Не оставил бы, знаю, — ответил Баоса.
Гаодага нагнулся над нартой, закрепил ремень, за который тянул, подправил груз.
— Давно я хотел с тобой поговорить, откровенно поговорить, — сказал он, — да никак не мог: обида на тебя грызла сердце. Помнишь наш разговор на могиле Тэкиэна?
— Мои слова из моего рта вылетели, чего же не помнить?
— Обидел ты зря. Поговорим по душам, чтобы этот камень не лежал на нас. Я знаю, тебе тяжело, а мне легче? Кончим это дело.
— Как кончишь так сразу, ведь на совести моей лежит, я тебе должен тори за Исоаку.
— Ничего ты мне не должен. Мы с тобой, Баоса, половину жизни дружим, неужто перед смертью поссоримся из-за каких-то денег?
— На совести лежит...
— Знаю — на совести, не на ладони, лежало бы на ладони, взял бы да выбросил. Кончим этот разговор. Мы с тобой всегда все наши дела в тайге решали, в тайге подружились, закончим это дело в тайге. Ладно? Баоса стоял, опустив голову.
— Ты мне, будто бедняку, уступку делаешь, — сказал он. — Это как-то нехорошо.
— Не уступка, мы с тобой говорим, как друзья! Вот ты снял свои самострелы, те самострелы, на которые, может быть, поймал бы двадцать-тридцать соболей, верно?
— Так много — не поймал бы.
— Я гак говорю. Ты отдал самострелы, потому что я попал в беду, ты мне помог. Ты показал, что остаешься мне другом. Почему, когда я отказываюсь от тори, ты не веришь, что это я делаю из-за нашей дружбы? — Гаодага горячился. — Ну, почему не веришь? — с болью повторил Гаодага.
— Теперь верю, твои слова от сердца идут, — ответил Баоса.
— Тогда кончим наше дело, не будем больше говорить об этом. Исоака — жена Дяпы, ни о каком тори больше не говори и не беспокойся о жене Чэмче.
Гаодага с Баосой обнялись — мир между ними был восстановлен.
Тайга! Какая ты беспомощная, какая ты могучая, какая ты ласковая! Человек — маленькое существо — может затеряться в твоих бескрайних просторах, может погибнуть ни за грош, но посмотри на этих двух белоголовых стариков, ты их сдружила и ты теперь их помирила. Какая ты ласковая, тайга!
— Всегда я о тебе, как о друге, думал, да на душе черно было, — сказал Баоса. — Забуду обо всем. Ладно.
Гаодага накинул через голову ремень, взял левой рукой правило, прикрикнул на собак: «Тах! Тах!» — и легко заскользил по следу нарт.
«Друг до конца жизни останется другом, — думал Баоса, глядя вслед Гаодаге. — Камень с сердца моего сбросил, взял рукой да сбросил. Друг! Другой бы разве отдал дочь без тори? Теперь уж пусть и Улуска живет у нас, не стану выгонять. Жалко его, удачливый охотник. Пусть живет, пусть детей растит. Ничего, Пиапон, в большом доме опять будут детские голоса. Только вот еще Идари отыскать бы, было бы совсем хорошо».
После нашествия беженцев аонга зажила прежней спокойной жизнью. Как и раньше, утром очаг разжигал Баоса, днем кашеварил Ойта, он за это получал половину охотничьего пая, хотя не ставил самострелы, не бегал на лыжах по свежему следу соболя, он только иногда разнообразил меню — угощал охотников супом из рябчиков, которых добывал силками.
В первые дни в тайге, когда Пиапон отказался войти в пай с большим домом, Баоса не знал, как с ним поступить: псе охотники питались из одного котла, и это понятно — их добыча делилась между всеми, кто ел из этого котла. Но как быть с Пиапоном? Пиапон решил питаться отдельно, невиданный случай! Охотник из одного зимника, из одной семьи и вдруг питается отдельно! Пиапон попросил Ойту варить из его припасов супы и мясо. Мальчик охотно согласился, потому что ему и так нечего было делать целый день. Но Баосе не понравилось, что охотник из его зимника питается отдельно, и он попросил Пиапона отдать свои запасы в общий котел. Так Пиапон стал есть из общего котла, но добычей с другими охотниками он не делился.
Нынче Пиапона, как и прежде, сопровождала удача, и в этот сезон он добыл драгоценных соболей больше других. Теперь, во второй половине зимы, соболей стало меньше, часть их выловили, часть убежала на другие угодья, и редко встречались свежие, как говорят охотники — «еще тепленькие», следы, по которым можно было преследовать зверьков. К тому же стало меньше самострелов, и обходить их можно было за полдня. Поэтому Пиапон однажды решил заняться заготовкой дров. Возле аонги весь сухостой был вырублен, пришлось идти подальше. Пиапон запрягся в свои нарты, Ойта — в отцовы. Долго выбирали сушину. Пиапон, прежде чем валить дерево, протоптал от него в сторону дорожку, по которой должен был отойти Ойта, когда начнет падать дерево. Ойта без передышки пилил ствол и, когда дерево угрожающе затрещало, побежал по протоптанной дорожке. Пиапон остался у ствола и, задрав голову, смотрел, как задрожали ветки на верхушке, как крона зацепила белое облачко и зачертила острием по голубому небу. Пиапон следил за падением дерева и только в самый последний момент заметил, что оно валится на нарту Полокто. Хрястнули ветви, дерево ухнуло в мягкий снег, и тут Пиапон услышал, как хрустнули переломленные перекладины нарты.
— Что же ты сделал, паршивец! — закричал Пиапон. — Лень было оттащить нарту подальше! Вот придешь в аонгу, достанется тебе от отца.
Но Пиапон ошибся — не Ойте досталось за сломанную нарту, а ему. Как только услышал Полокто, что дерево задавило его нарту, сломало перекладины, он выбежал на улицу.
— Ты был старшим там, ты должен был посмотреть, где мальчик оставляет нарту! — закричал он на брата. — Ты сломал мою нарту, а в тайге ломать нарты — это байта. Ты должен ответить, должен возместить!
— Чего раскричался, я тебе новые перекладины сегодня же поставлю, — сказал Пиапон. — А виноват не я.
— Ты виноват, ты возместишь! Не надо мне новых перекладин!
— Я отдам тебе свою нарту, — заступился за Пиапона Калпе.
— Уходи, не твое дело! Ты, отец Миры, теперь от этого дела не отвертишься, ты мне заплатишь за сломанную нарту.
Пиапон понял, теперь ему окончательно придется рассориться с Полокто, понял еще, что Полокто не столько расстроен, сколько обрадован: он ждал этого момента терпеливо и долго и решил сейчас отквитаться за прошлое унижение. Пиапон знал закон, который тяжело карал людей, нарочно, с какой-то целью ломавших охотничьи принадлежности. Но это касалось людей, которые сознательно ломали, а он не притронулся к нарте Полокто, он даже не помышлял ее сломать.
— Отец, посмотри, что сделал твой Пиапон, он нарочно свалил дерево на мою нарту, нарочно сломал ее, — обратился Полокто к Баосе. — Я требую разбирательства.
— Кто будет судить здесь, в тайге? — спросил Баоса.
— Ты будешь судить.
Баоса промолчал.
— Возьми мою нарту и не вопи больше, — сказал Пиапон.
— Не надо мне твоей нарты. Ты сломал в тайге охотничье снаряжение и должен расплатиться железным предметом. Таков закон, сам знаешь.
— Что тебе надо? Нож? Не отдам я его, не могу остаться без ножа. Ружье — слишком жирно, подавишься.
Пиапон был спокоен, он говорил, слегка посмеиваясь над Полокто, ясно было видно, что он издевается над ним.
«Опять Полокто! Опять он, негодяй! — негодовал Баоса. — Ссориться ему надо, собачьему сыну!» Только он хотел прикрикнуть на споривших, как в это время Полокто крикнул:
Байта — подсудное дело.
— Капкан свой отдай!
«Негодяй, ох негодяй какой, с родным братом начал судиться без дянгиана, — возмущался Баоса. — Все пропало! Все пропало!»
— Полокто, кончай ругаться! — закричал Баоса. — Мою нарту возьми!
— Я уже сказал, чем он должен возместить, — злобно ответил Полокто. — Пиапон должен мне капкан.
Всем, кто находился в аонге, было неприятно смотреть на Полокто, он сам это чувствовал, но уже не мог отступиться: слишком уж велика была зависть к удачливому капкану брата.
— Где дянгиан — судья? — спросил спокойно Пиапон.
— Отец.
Баоса отвернулся.
— Хорошо, завтра принесу тебе капкан, — так же спокойно ответил Пиапон. — Я не люблю вшей, вони... Завтра принесу.
«Теперь мне не жить с ним в одном зимнике», — подумал он.
На следующий день Пиапон вернулся поздно, за его спиной висели снятые с соболиных троп самострелы. Он вошел в зимник, не раздеваясь, остановился в дверях. — Не судился я раньше, виноватым не был и не знаю, как я должен отдать тебе капкан, — сказал он.
Полокто постелил на улице на снегу кусок шкуры, положил на нее аккуратно подстриженные, связанные между собой палочки и отошел.
— Клади на шкуру, — сказал он и обратился к окружавшим: — А вы хлопайте себя по плечам и дуйте на плечи, чтобы на вас не садилась байта.
Пиапон положил капкан на шкуру и ушел в зимник. Весь вечер он собирал вещи, складывал их на нарты, увязывал. На ночь оставил только спальный мешок.
— Ты что решил, отец Миры? — спросил перед сном Баоса.
— Решил больше не попадаться к судьям, и байту не хочу.
Потушили жирник, в аонге стало так темно, что Пиапону казалось, будто перед ним не пустота, а какая-то твердая, черная масса.
— Ага, решил уйти, да? — шепотом спросил лежавший рядом Калпе. — Может, передумаешь? Ух, жаднюга, давно он зарился на твой капкан.
Баоса слышал шепот братьев. «Пиапон не виноват, не виноват», — убеждал он себя.
Утром Пиапон покинул аонгу отца.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
— Ты не мерзляк, я тоже не мерзляк, проживем, — говорил Токто, делая зимник из хвои.
Когда зимник был готов, Токто с Потой занялись заготовкой дров. В первый день в тайге не принято браться за ружья, за самострелы; если даже наткнется на аонгу табун кабанов — не стреляй: сперва надо устроиться с жильем, познакомиться с Хозяином охотничьих угодий — Подей, крепко помолиться ему одному, если он одинок, а если у него семья — то всей семье. Подя хотя и Хозяин определенной части тайги и невидим для простого глаза, но он, подобно обыкновенному человеку, имеет жену и детей. Если кому захочется с ним поговорить, может явиться к нему только во сне. А на своем владении Подя находится и днем и ночью, сидит с охотниками возле костра в их зимнике, слушает беседы, ест, что ему подадут; из этих бесед и узнает он людей. Если человек ему нравится — будет гнать соболей на его самострелы, когда начнет подкрадываться к кабану или лосю, он прикроет зверю уши и глаза, и зверь не увидит охотника, подпустит совсем близко.
Каждый таежник знает причуды Поди и стремится задобрить и расположить его к себе. Пота сам умел молиться и ждал, когда Токто, глава аонги, начнет готовить тороаны — жерди с человеческими лицами, и гадал, поглядывая на высоченные кедры, которое из них станет священным деревом. Но Токто, вместо изготовления тороанов, принялся заготовлять дрова.
«Что же он думает? Ведь день кончается, полагается молиться днем, при солнце и обязательно в первый день», — думал Пота.
— Мы будем просить удачи или нет? — спросил он после полудня.
— У кого просить? — небрежно спросил Токто.
— Как у кого, у Хозяина тайги.
— Проси один, я никогда ни у кого ничего не выпрашивал.
Пота не мог понять, шутит Токто или говорит всерьез.
«Нет, не шутит, — подумал он, приглядевшись к лицу названого старшего брата. — Как же так, разве можно в тайге так себя вести? Что он делает? Разгневается Хозяин тайги, что тогда с нами будет?»
— Ага, как же... — И Пота запнулся, он не знал, как выразить свою мысль. — Ага, ведь Подя...
Пота вспомнил дорогу от стойбища до места охоты, вспомнил, как его еще тогда удивляло поведение Токто: принято во время еды в любом месте угощать местного Подю, для этого требуется бросить лучший кусок еды на огонь и сказать: «Кя, Подя!»
Так делают все охотники, которых встречал Пота. Но Токто за всю дорогу ни разу не бросил ни куска лепешки, мяса, крупинки каши, он будто не знал о существовании Поди.
Когда достигли верховьев реки и, переложив вещи, снаряжение на нарты, пошли по снегу, то сразу наткнулись на кабанов. Пота собрался было стрелять, но кабаны разбежались в разные стороны, будто кто-то внезапно поднялся в середине табуна и вспугнул их.
— Хорошо, что разбежались, — сказал Токто. — А то пришлось бы лишний груз тащить. Кабанов мы еще встретим там, где аонгу построим, мяса вдоволь будет.
«Разве так можно язык распускать в тайге? — подумал тогда Пота. — Эти слова могут услышать звери тех мест и разбегутся. Какая неосторожность!»
— Пота, ты не следуй моему примеру, я никогда не прошу удачи, — наконец ответил Токто. — У меня здесь все Подя знакомые, я с ними в дружбе, и они без просьбы дают мне соболей. Ты иди помолись, а я тем временем дров наготовлю.
«Что он делает, нарочно говорит или всерьез? — гадал Пота, обтесывая топором двухсаженную жердину. — Храбрится или на самом деле Подя без молитвы уступает ему зверей?»
Пота обтесал две жердины средней толщины, на концах вырезал человечьи лица с острыми ногами, с глубокими глазницами, с толстыми губами. В нескольких десятках шагов от аонги стоял ветвистый, толстый кедр, его и облюбовал Пота под священное дерево. Приготовив тороаны, настругав длинных пахучих стружек, Пота принялся готовить угощение для Поди. Сварил пшенную кашу, щедро заправил ее рыбьим жиром, отварил фасоли, поджарил на огне жирную юколу — больше ему нечего было готовить, положил все это в берестяные чумашки, налил половину медного кувшинчика водки и пошел под священное дерево.
Под кедром он воткнул в снег тороаны и на человеческие головки накинул стружки. Тут же расчистил площадку от снега и начал из тоненьких прутьев строить маленький игрушечный лабаз, положил в него принесенные угощения, а под лабазом постелил накидку, которая прикрывала его шею и ворот халата от падавшего с деревьев снега; тут же положил порогдан — охотничью круглую шапку с беличьим хвостом на макушке. Закончив приготовление, Пота налил в чашечку водка, опустился на колени лицом к священному дереву и двум тороанам.
Пота был без шапки, голова его мерзла, уши щипало. Он выкрикнул все слова молитвы, выплеснул водку на лабаз и убежал в зимник. Отогрелся у огня, вытащил из берестяной коробки охотничью одежду и начал переодеваться. Сперва он накинул короткую и легкую куртку из кабаражьей шкурки, натянул шуршавшие наголенники из рыбьей кожи, обулся в торбаса, потом накинул на плечи красиво вышитую накидку, завязал тесемками на шее, надел порогдан с пышным собольим хвостом, последним надел изящно вышитый передник из рыбьей кожи, который охотники брали в тайгу только для моленья, а носить в будничные дни не носили. Облачившись в охотничью одежду, Пота перекинул через плечо ружье, взял в руки копье, заткнул за пояс волосяные силки на птиц и мелких зверьков, сетку для ловли соболей и вышел в полном снаряжении из аонги. Он прошел к лабазу, положил перед ним копье, ружье, а сетку и силки повесил на куст и опустился на колени:
— Старый отец, старая мать, солнце и небо, эндури-отец, горы, долы, тайга и речки, слушайте все! Слушайте все!
Таежное эхо разносило крик Поты, то удесятеряя, то уменьшая до птичьего писка, несло к дальним сопкам, к горе, которая возвышалась на западе, посверкивая острыми гольцами.
— Слушайте все! Выпустите всех насекомых на четырех ногах, откройте им двери! Соболей выпускайте! — кричал Пота и вдруг схватил чумашку и начал разбрасывать кашу горстью во все стороны. — Получайте угощенье, горы, угощайтесь, долы! И ты, речка серебряная, которая поит своей водой всех соболей! И ты, тайга, укрывающая зверей, угощайся и не жалей их, выпускай. И ты, солнце, угощайся, не скрывайся на зиму за темными тучами, обогревай зверей и нас! И ты, Подя, Хозяин тайги, угощайся, я щедрый, и ты будь щедрым!
За кашей Пота щедрой рукой разбросал фасоль, мелко нарезанную юколу, побрызгал во все стороны водкой. Пота был щедр, и будь в этот момент под рукой у него банка водки, он расплескал бы ее всю, рассыпал бы еще котел каши и фасоли, разбросал бы амбар юколы. И зачем было жалеть Поте кашу, фасоль, водку, когда за его щедрость горы, тайга, Подя вернут ему в три раза больше — они же видят, какой он щедрый человек, а щедрых, он знал, они любят и сами не скупятся на отдачу.
Разбросав всю юколу, расплескав водку, Пота внезапно свалил лабаз и все палочки, рассыпавшиеся на постеленную накидку, мгновенно увязал и закричал:
— Спасибо, старый отец, спасибо, старая мать, спасибо тебе, солнце, спасибо тебе, эндури, спасибо вам, тайга и горы! Вот сколько вы мне соболей дали, унести их даже невозможно, хоть на помощь соседей зови! Спасибо вам за щедрость! Сколько соболей вы мне дали: считать — не сосчитать!
Пота согнулся под тяжестью свертка с палочками, подобрал ружье, копье, а когда стал снимать силки и сетку с куста и оставленные им самим там палочки, опять закричал:
— Вот еще соболи! Вот они еще куда попались! Спасибо вам.
Пота, согнувшись, будто таща неимоверно тяжелую ношу, волоча ноги, поплелся в аонгу.
Токто сидел у очага и ел кашу с поджаренной на огне юколой. Увидев его, Пота смутился, пробрался в свой угол, засунул накидку с палочками под свою постель и стал снимать снаряжение, одежду.
— Устал ты с дороги, тяжесть большую нес, — сказал Токто и поднес ему горячего чая, как молодые кашевары подносят чай старшим.
Пота опять не разобрался, всерьез или в шутку говорит его названый старший брат. Он взял кружку и с жадностью стал отхлебывать сердитый чай.
— Ты хорошо молишься, — похвалил Токто. — Можно подумать, ты каждый год в тайгу приходишь главой аонги. Молиться так только старики умеют, а ты и за главу аонги прокричал, потом и за аонгу...
— Смеешься, что ли? — начиная сердиться, спросил Пота.
— Разве смеются над этим?
— А ты вроде насмехаешься.
— Никогда я не смеялся над этим, сам молюсь, когда надо.
— А сейчас не надо? Как же тогда охотиться будешь?
— Самострелы буду ставить, по следу буду гоняться.
— Тебе же удачи не будет, Подю ты не задабривал.
— Подя мне знаком.
Пота больше не стал расспрашивать. Он молча отхлебывал чай.
— У нас на Горине живет род Самаров, — заговорил Токто. — Однажды они так же приехали в тайгу и в первый день начали молиться солнцу, эндури, тайге и Хозяину тайги. Хорошо они молились, они умеют это делать. Так что ты думаешь? — Токто выжидательно замолчал, но, не дождавшись ответа Поты, продолжал: — Говорят, что в то время, когда они бросали угощенья, плескали водку, вдруг с неба пошел серебряный дождь. После этого будто бы Самары стали удачливы на промысле. А я, Пота, здесь не молюсь, удачи не вымаливаю, ты не обижайся на меня.
— Я не обижаюсь, только как-то неудобно, выходит, ты Подю не уважаешь.
На следующий день Пота вышел из аонги в темноте и зашагал на участок, который указал ему Токто. Подмороженный снег тонко поскрипывал, стонал под мягким мехом лыж. В тайге было совсем темно, и Пота шел по звездам.
«Иди не спеша, на рассвете будешь у Звенящего ключа. Потом иди вверх по этому ключу, там твой участок», — напутствовал Поту Токто. Сам он ушел в противоположную сторону.
Пота не спешил, если бы даже и захотел, не очень-то разбежишься в темной тайге — кругом ветви, кусты цепляются за куртку, колют и царапают лицо.
Поблекли и стали гаснуть звезды, небо начало сереть. В тайге посветлело, Пота уже различал следы зверей. В Звенящий ключ он пришел, когда поднялось солнце.
«Выходит, я шел слишком медленно», — подумал Пота.
Соболиных следов было много. Опытные охотники обыкновенно сперва обходят весь участок, подсчитывают, сколько и каких зверей водится на участке, и только потом начинают выставлять самострелы на лучших местах, где зверек должен неминуемо попасть на самострел. И в то же время каждому лестно взять добычу первым.
Пота поднимался по ключу и ставил один самострел за другим на широких, утоптанных соболиных тропках, а в голове вертелась назойливая мысль: «Поймает Токто соболей или не поймает? Если он поймает, то раньше или после меня? Почему он не молился? Его ждет неудача». И Поте представилось, как мучается Токто, как его преследуют неудача за неудачей, и Пота великодушно говорит: «Ничего, ага, не мучайся, ты мне помогал, я тебя не оставлю. Ничего, проживем».
Выставив все захваченные с собой самострелы, Пота отправился обследовать свое владение. Соболей было достаточно по самым скромным подсчетам, на территории ключа их водилось не меньше тридцати штук. На Звенящем ключе много было и белок, они-то и привлекали к себе хищных соболей. Здесь же бродил одинокий лось, табун кабанов: на большом участке они разрыли снег в поисках пищи.
Пота вдруг наткнулся на свежий след соболя и, не раздумывая, погнался за ним. Соболь бежал по снегу, потом взобрался на дерево и, прыгая с ветки на ветку, как белка, уходил от погони. Но Пота не был бы охотником, если бы не разыскал место, где зверек опять опустился на землю, он нашел это место и опять пошел по следу. Зверек уходил от преследования широким махом, он уже почуял погоню. Пота прошел еще сотню шагов, мах соболя не уменьшался, значит, это сытый, сильный, хорошо отдохнувший соболь, и его не так-то просто догнать. Вернувшись в зимник в сумерках, Пота затопил очаг, поставил чай, накормил собак. Голодные собаки набросились на высушенный костяк кеты, захрустели зубами, застонали от удовольствия.
Пота оглядел чернеющее небо и неожиданно увидел тонкий, еле заметный серпик зарождавшегося месяца.
— Месяц, месяц родился! — воскликнул он и подпрыгнул от радости. С первого дня беременности Идари он искал на небе молодой месяц.
— Я увидел зарождавшийся месяц, — сообщил он, как только Токто переступил порог аонги.
— Молодец, очень хорошо! — Токто тоже обрадовался не меньше Поты. — Выходит, сын у тебя будет. Так старики говорят.
Токто снял шапку, накидушку, не снимая куртки, опустился на мягкую хвою.
— Смотри, что я принес, — сказал он, вытаскивая из-за пазухи соболя.
— Соболь! Ты поймал? — спросил Пота и смутился, поняв глупость вопроса.
— Сам поймал, — усмехнулся Токто. — Ну что, чаем угостишь?
Токто выпил одну кружку, снял куртку, обувь, наголенники, уселся поудобнее и принялся за вторую. Пот струйками сбегал по лицу, по шее, он вытирал его платком и продолжал пить.
— Удачно начал охоту, — сказал он. — В первый день сразу поймать соболя сеточкой — это очень хорошо. И не очень-то долго я гонялся за ним, забежал в нору, а оттуда ему дорога только ко мне за пазуху.
«Как же так, он не молился, совсем не признает Подю, — мучился Пота, — и в первый же день поймал... вот это здорово! Какую же он силу имеет, чтобы против Поди идти? Этот человек — мой старший брат, даже подумать страшно. Может, этот соболь случайно попал ему? — Пота взял зверька, повертел в руке, подул на шерсть — соболь как соболь, правда не самый лучший, средний. Если бы он был чуть темнее, то торговцы заплатили бы хорошо. — Да-а. Не молился Поде, не просил удачи, а первым добыл соболя...»
— Не расстраивайся, — сказал Токто, будто прочитав мысли Поты. — Какая разница — я первый или ты первый? Мы же одна аонга — все общее. Ну, как на Звенящем ключе, есть хвосты?
— Есть. Хватит.
— Вот и хорошо.
Пота разлил в чумашки сваренный из юколы суп. Ели молча.
После ужина Токто снял шкурку с соболя, а тушку засунул под хвою изголовья.
— Хорошо, Пота, сын у тебя будет — это верно, — закурив трубку, сказал Токто. — Как там наши дома, здоровы ли?
— А ты кого ждешь?
— Все равно, лишь бы человек был.
— А если девочка?
— Тогда породнимся с тобой.
— А что? Верно ведь! — обрадовался Пота. — Если у меня сын, а у тебя дочь...
— Поженим их, и мы будем настоящие родственники.
— Верно! Вот хорошо! Давай дадим крепкое слово, поженим наших детей.
— Уж дали слово, только осталось ждать, кто появится и когда подрастут. — Токто запыхтел трубкой. — Растить их трудно.
— Вырастим, лишь бы родились.
Токто вздохнул и не стал возражать молодому напарнику — уж кто-кто, а он знал, как трудно вырастить человека.
В этот вечер Пота думал только об Идари и о сыне, ночью видел их во сне. Токто тоже долго не мог уснуть, думал о женах, вспоминал всех детей, и сердце его сжималось от боли. Из всех умерших детей он чаще всего вспоминал девочку, которая прожила до трех лет, безумолчно смешно лепетала, будто журчащий ручеек, ковыляла на кривеньких ножках, бесстрашно лезла в середину собачьей своры и не раз бывала подмята ими. Ох и доставалось в таких случаях Обе и Кэкэчэ! Не присматривали они за дочерью. Токто любил наблюдать за игрой девочки. Лежа на нарах, он делал вид, что спит, а девочка возилась рядом с двумя щенками, пеленала их тряпьем, укладывала спать.
«Тише, тише, не кричите, — шептала она непослушным щенятам. — Видите или но видите, папа спит, он устал, он рыбу ловил, он за мясом ездил, чтобы вас накормить. Тише, папа устал, спит, вы тоже усните. Ну, не кричите, я же говорю, папа устал, спит, неужели не понимаете?»
Токто будто слышал голос дочурки, она говорила: «Папа спит, тише». Токто не мог больше лежать, он уже знал: если увлечется воспоминаниями, то начнет разговаривать с дочерью. Был такой случай.
Токто вылез из спального мешка, раздул уголья и, когда затрепетал огонек, закурил, потом начал отбивать поклоны.
С этого дня Токто каждое утро молился, просил, чтобы жена благополучно разрешилась, чтобы эндури взял новорожденного под свою защиту.
Дни один за другим исчезали, таяли, как снег в апреле. Токто с Потой проверяли самострелы через день, а в свободные от проверки дни выслеживали соболей, лисиц, стреляли белок, гонялись по глубокому снегу за косулями, лосями, кабанами и запасались мясом. Был у них еще один вид увлекательного промысла — выслеживание тонконогих кабарожек. Мясо кабарги было мягче, вкуснее лосиного и кабаньего, а струя ее китайцами ценилась довольно высоко. В аонге, рядом со шкурами соболей, уже сохли кабарожьи струи. Охотники довольны были промыслом.
Больше полутора месяцев Пота охотился на новом месте, за это время он побывал в самых дальних уголках своего участка, поднимался на гольцы. Он полюбил Звенящий ключ и всегда отдыхал на нем и, слушая звон ледяной струи, вспоминал Идари, время, проведенное с ней на берегу Полокана. Звенящий ключ пел свою вечную песню, потом начинал сердито бормотать.
— Ладно, ладно, отдохнул, ухожу, только не сердись, — говорил Пота и шел дальше по своей тропе.
Пота привык к новой тайге, но не мог примириться с Токто, который все еще не признавал Подю, пи разу по бросил кусочка пищи в огонь и не сказал: «Кя, Подя». Правда, он добывал соболей больше Поты, удача всегда следовала по пятам Токто. Видно, и на самом деле здешний Подя в каких-то дружеских отношениях с ним, если так щедро уступает ему зверей. Но Поте все время казалось, что если бы его старший брат помолился Поде, задабривал его, то он стал бы еще более удачлив. Юноша не раз начинал об этом разговор со старшим братом, но Токто отшучивался и переводил разговор на другое.
Но однажды Токто возвратился в аонгу злой-презлой. Выпив чаю и плотно поужинав, он начал кого-то ругать в полный голос. Пота с ужасом понял, что его старший брат ругает и оскорбляет Подю, он не знал, что ему делать: если останется во время этой ругани в аонге, то невольно станет соучастником — оскорбителем Поди. Но куда ему уйти ночью, да еще в такой мороз, когда деревья трещат от него?
— Негодяй, сволочь ты, Подя! Попадешься мне, гад, я тебя, поганого старичка, за бородку оттаскаю, без бороды останешься! — кричал Токто. — Это ты учишь зверей разгадывать охотничьи секреты. Остановил соболя перед моим; самострелом и заставил сойти с тропы, кабаргу научил обойти мою петлю! Это ты научил безмозглого соболя перегрызть тетиву лука? — Токто размахивал луком самострела, шумел, громко ругался.
— Ага, может быть... — заикнулся было Пота.
— Молчи! — рявкнул Токто, он был разъярен, как раненый медведь. — Я тебя, паршивый старикашка, разыщу, где бы ты ни спрятался, если ты не отучишь того соболя, которого научил тетиву перегрызать! Подумай над моими словами, исправь ошибку. Завтра иду проверять самострелы...
«Как ребенка поучает, — думал Пота. — Это же Подя! Разве так можно?!»
В тревоге за завтрашний день уснул Пота. На следующее утро он ушел выслеживать кабаргу, проверять выставленные на нее петли. Вечером вернулся с небольшой кабарожкой за спиной. Он знал, что эта кабарожка не принесет ему ни муки, ни крупы: струя ее была меньше положенного размера. «На ужин сварю», — подумал Пота, подходя к аонге. Возле аонги стояли воткнутые в снег лыжи Токто, над аонгой струился сизый дымок. «Рано что-то вернулся, — встревожился Пота. — Наверно, неладное с ним случилось».
Пота бросил кабарожку на снег, снял лыжи и вбежал в зимник. Токто сидел возле очага и, щурясь от удовольствия, пил чай.
— Сегодня я тебя опередил, — улыбнулся он. — Садись, попьем чайку, вкусный чаек я заварил.
— Почему так рано вернулся?
— А что делать? Проверил самострелы — и назад.
— Ничего не случилось?
— Что может случиться? Чего ты такой напуганный?
— Ничего не напуган. Я сейчас лыжи на место поставлю. На ужин сварим кабарожку?
— Поймал или подстрелил?
— Подстрелил.
— Гонялся?
— Нет, случайно наткнулся и подстрелил.
— Чего тогда спрашиваешь? Это же самое лучшее мясо! Варить будем. Ставлю котел.
«Веселый вернулся, — облегченно вздохнул Пота и вышел на улицу свежевать кабарожку. — Значит, ничего с ним но случилось. Подя мимо ушей пропустил его оскорбления. Почему он не наказан? Неужели Токто сильнее Поди?»
От этой догадки Пота даже присел. Оставив кабарожку с наполовину не снятой шкурой, Пота вбежал в аонгу.
— Скажи, ага, только честно скажи, — возбужденно заговорил он. — Подя тебя слушается? Ты сильнее его?
Токто опустил глаза, отпил еще глоток чаю и только тогда ответил:
— Он же не человек, как с ним померяешься силой?
— Но он слушается тебя?
— Попробовал бы не послушаться.
— Как так — ты охотник, он — Подя, и вдруг он тебя слушается?
— Выходит, слушается. Вот смотри. — Токто вытащил из-за свернутого спального мошка соболя. — Сегодня утром на рассвете попался на самострел.
— Это тот, который...
— Он самый, хотел, паршивец, с помощью Поди охотничий секрет разгадать.
— Подя на самострел загнал? — с замирающим сердцем спросил Пота.
— Он загнал. Обожди, — спохватился Токто, — где же мясо? Котел кипит, сердится, мясо ждет.
Пота выбежал на улицу.
«Вот кто мой старший брат! — с восторгом думал он, разделывая кабаргу. — Он сильнее Поди, Подя слушается его, как меня слушается моя собака. Человек, такой же человек, как и я, а подчинил себе Подю! Да, это человек!»
Мясо молодой кабарги сварилось быстро.
Зайца, кабаргу и рыбу не надо долго варить, говорят охотники, всплывает в котле три пузыря, и можно есть.
— Это мясо вкусное, — расхваливал Токто, обгладывая косточки. — Давно не ел такого вкусного мяса. Ты, Пота, различил бы по вкусу мясо зверя?
— Хоть плохой, но я все же охотник, — обиделся Пота.
— Не сердись, Пота, — Токто засмеялся, — я шучу. Хотел другое спросить. Вот я бы убил три косули: одну застрелил бы на месте, как сделал ты, другую поймал бы петлей, а третью догонял бы на лыжах полдня и убил палкой. В трех котлах сварил бы эти три косули — ты узнал бы по мясу, какая из них как убита?
— Ага, я хоть и моложе тебя, но я убивал зверей, — опять обиделся Пота.
— Узнал бы, конечно, узнал бы. Я так просто спрашиваю, радостно мне, потому всякое расспрашиваю. Не обижайся, Пота.
После ужина Пота убрал котел, берестяную посуду, собрал кости и бросил собакам, потом сел выкурить трубку перед сном.
— Подя, я больше на тебя не сержусь, помиримся, — сказал Токто. — Только смотри, больше не открывай своим зверям человеческие тайны. Как же мы будем их ловить, если они все наши мысли будут читать, все хитрости отгадывать? А теперь, Подя, я хочу проучить твоего соболя.
Токто взял в руки соболя. Пота не мог разглядеть при слабом огне жирника, какого он был цвета.
— Дорогая была твоя шкурка, соболь, — сказал Токто. — Ты один из лучших, каких я видел в своей жизни. Может, потому ты подумал, что можешь сравняться с человеком по уму? Нет, ты соболем жил, тебя эндури сделал соболем — никогда ты не сравняешься с человеком, никогда все хитрости не познаешь! Вот тебе наказание за то, что ты познал только одну человеческую хитрость! — Токто поднес соболя к огню, мелкие искорки пробежали по соболю, и в аонге запахло паленой шерстью.
«Что он делает! Самого дорогого соболя палит!» — ужаснулся Пота, но вымолвить что-либо вслух он опасался: Токто сам знает, что делает, он не простой человек, он победитель Поди.
— Мозги пусть твои туманятся запахом паленой шерсти, пусть совсем затуманятся дымом человеческого очага, — говорил Токто, тыкая зверька носом в остывшую золу. — Зола пусть заложит твой чуткий нос, засыплет острые глаза, чтобы никогда ты не унюхал человеческие самострелы, не увидел их. Вот тебе! Вот тебе! Ты теперь ослепнешь, нос твой никогда ничего не унюхает, уши твои никогда не услышат шороха лыж, мозги затуманятся, останутся прежними — соболиными. Я не глумлюсь над тобой, я делаю это в великом гневе. Ты соболь и соболем должен быть...
Закончив заклинание, Токто снял с соболя шкурку, а тушку положил под хвою, под изголовьем, где хранились все остальные тушки.
— Шкурка испортилась? — спросил Пота.
— При чем тут шкурка? Соболя я проучил, — ответил Токто.
— Обгорелую никто не возьмет.
— Жадные торговцы возьмут.
В этот вечер Пота впервые уснул, не беспокоясь о завтрашнем дне Токто, и думал он только о сыне, об Идари.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Бурная река Харпи все же наконец уступила морозам и сдалась. Уже больше месяца она глухо урчит подо льдом, сердится. Сколько ни прислушивается к ней Идари — не запоет она свои серебряные песни, не заворкует так, как ворковала в летние дни. А когда Идари утром пробивает подмерзший ледок в проруби, река начинает вырываться на волю через это маленькое оконце. Идари возвращается домой, подгибаясь под тяжестью ведер.
Стойбище Полокан замело снегом, и если не знаешь, то не сразу разберешь, где настоящие сугробы, а где землянки. Некоторые фанзы, не защищенные густыми тальниками, тоже погребены под снегом, и с их крыш мальчишки скатываются на лыжах до противоположного берега Харпи. А с других фанз катаются девчонки на санках, и там, где они катаются, всегда стоит визг, смех.
Только детям приносит радость зима, они шалят, резвятся на улице и лишь в самую сильную метель отсиживаются в жилищах. Но как только утихнет ненастье, мальчишки восьми-девяти лет надевают лыжи и бегут в тайгу проверять петли на зайцев, силки на птиц, и к месяцу нэвудимэ — февралю — они каждый год вылавливают в окрестностях Полокана всех зайцев, распугивают всех рябчиков и тетеревов. Но приходит месяц март, начинается заячий гон, и косые как бешеные начинают скакать по всей тайге и забредают в окрестности Полокана, и тогда мальчишки вновь начинают свой промысел. Правда, к этому времени возвращаются из тайги старшие девятилетние — двенадцатилетние мальчишки, и они, как заправские охотники, со знанием дела, из-под носа малышей перелавливают тех немногих зайцев, которые забегают на их охотничье угодье.
Зима выдалась морозная, снежная и пуржливая. Как всегда, за снегопадом поднимался ветер, подбирал снежинки с открытых мест и на своих крыльях уносил в тайгу. Стойбище Полокан стояло на открытом месте, и его продувало всеми ветрами, кроме северного, от которого оно было защищено густой тайгой и высокими сопками. Но стоило подняться маленькому верховику, как в Полокане начинал вихриться снег между фанзами, поземка хлестала по сомьим пузырям на окнах. Матери выбегали на улицу, с тревогой глядели на черную тайгу, куда ушли сыновья. Однажды в пургу не вернулись из тайги двое мальчишек — внуки Пэсу Киле. Встревоженная мать потеряла голову, бегала по стойбищу в поисках лыж, чтобы идти в тайгу. Но где разыщешь большие лыжи, когда в стойбище одни женщины и дети? Оставшийся в Полокане старик Бельды Донда лежал больной. Когда женщина пришла к нему за лыжами, старик усадил ее рядом, дал закурить трубку.
— У тебя дома еще есть дети, — сказал он. — Ты можешь уйти в тайгу и не вернуться, как дети без тебя останутся? Ты еще молода, ты в силе, у тебя еще будут дети, ради них надо в живых остаться. А мальчишки... Мужчины рождаются для того, чтобы за жизнь стоять, чтобы жить. Сильные мужчины не умирают, пока не оставят за себя детей, род людской не продолжат. Если твои сыновья сильные мужчины — они вернутся...
И мальчики вернулись. Обмороженные, обессиленные, они добрались до родимого дома. Смелые мужчины росли в Полокане!
Разными событиями изобиловала жизнь стойбища, хотя в нем не было мужчин, и только в доме Токто было тихо и мирно, женщины сидели кружочком на нарах и занимались делами: Оба плела циновку из камыша, Кэкэчэ вышивала узоры на халатах, она была мастерица и выдумывала много новых забавных орнаментов. Она сперва выводила их на черной материи мучным раствором, если не нравились какие завитки, она смывала рисунок и выводила новый. К ней приходили соседки с полосками бересты и чуруэном переводили придуманный узор.
Идари с малых лет умела выполнять все женские работы, она плела корзины, циновки, делала всякую посуду из бересты, обрабатывала шкуры зверей и рыбью кожу, шила халаты, обувь, варила еду и обрабатывала рыбу. Во всяком деле она могла бы поспорить с любой женщиной, но в вышивании узоров не могла сравняться с другими и теперь с прилежностью училась этому мастерству у Кэкэчэ. Идари уже вышила верх мужских торбасов, подол женского халата, грудь праздничного мужского халата.
— Вернется он из тайги, ох как удивится! — говорила Идари. — Он знает, что я плохо вышивала, а я вот какие узоры уже вышила.
Старшая в доме Оба с доброй улыбкой слушала разговор молодых женщин, иногда советовала что-нибудь исправить или изменить в орнаменте, выбрать цвет нитки для узора. Ее слушались, да и как было не слушаться этой доброй, милой женщины! Оба сама делала всю домашнюю работу, убирала, варила, ездила за дровами и лишь изредка разрешала Идари сходить по воду.
— Тебе тяжело, Идари, я сама все сделаю, — говорила Оба. — Смотри, если ты расколешься, как орешек, попадет мне.
Оба следила за двумя молодыми женщинами, всячески оберегала их. Идари, увлекшись вышиванием, позабыла о наказе Поты, но Оба не забывала об опасности, она постоянно следила за дорогой. Однажды первой в стойбище она заметила упряжку собак и успела обежать всех соседок и предупредить, чтобы никто не проговорился, что у них живет Идари. Но тревога оказалась напрасной, в упряжке приехал старик Дохоло Гейкер из стойбища Хурэчан навестить своего друга Донду Бельды.
— Эгэ, — сказала Идари, когда улеглась тревога. — Я же уверена, отец не накажет нас, у нас же скоро ребенок будет. Разве можно теперь моего мужа убивать? Он же готов отцу тори заплатить. Отец, наверно, простит нас.
Чуруэн — тупой короткий нож, предназначенный для продавливания орнамента на бересту.
Эгэ — старшая сестра.
— Не торопись, Идари, надо ждать, — отвечала Оба, а ее добрые, ласковые глаза договаривали: «Какая ты еще глупенькая, Идари. Разве ты можешь знать, что думают родители».
После отъезда старого Дохоло Гейкера в Полокане стало по-прежнему тихо и привычно уютно; полоканцы, как и все жители дальних стойбищ, жили только соседскими новостями: кто-то заболел, кто-то выздоровел, такая-то соседка идет сегодня за дровами, напарницу ищет, другая варит полынный суп с мясом — интересно, какой получится суп? Любая мелочь из фанзы в фанзу передается женщинами, но что происходит в соседнем стойбище или на Амуре, об этом никто не знает, а о существовании других рек, земель, других народов даже не задумываются, потому что и не подозревают об этом.
Стоит Полокан тихий, уютный, сугробистый, и только детские звонкие голоса нарушают тишину.
Наступил новый месяц — январь, предродовой месяц Кэкэчэ. Оба закончила плести новую циновку, она ее изготовила Кэкэчэ и ее будущему ребенку, и тут же принялась готовить саори. Оба знала, что понадобится много саори новорожденному, да притом не одному, ведь за Кэкэчэ, немного погодя, должна рожать Идари. Много понадобится! Оба вымачивала охапку полусаженевых черемуховых черенков в проруби, потом оставляла их на ночь на улице, а утром рано затаскивала холодные белые от инея черенки в фанзу и начинала состругивать с них тонкие мягкие стружки. Вся фанза заполнялась ароматным, немного терпким запахом. Закончив стругать, Оба завязывала пахучие саори в тюк, перевязывала крест-накрест снятой мягкой корой и уносила в амбар. Потом она кормила собак, варила еду, а днем обрабатывала шкуры, тачала обувь — так проходил день. Оба привыкла, примирилась с такой жизнью и теперь не могла усидеть без дела дольше, чем нужно было, чтобы выкурить одну трубку.
Милая, добрая, ласковая Оба! Куда ты спешишь, какое неотложное дело ждет тебя? Посиди, отдохни хотя бы зимой, когда твой муж — хозяин не нагружает тебя работой. Наступит весна, начнется весенний ход рыбы, и тебе придется ее ловить вместе с мужем, потом ночи напролет обрабатывать: вялить, варить. К утру только ляжешь в постель и уснешь мертвым сном и даже не услышишь, как муж ласкает тебя. Пройдет весенний ход рыбы, а для тебя наступит самая горячая пора. Ты будешь ездить на дальние ключи собирать черемшу, будешь готовить се впрок; будешь сама собирать полынь, варить ее, сушить, чтобы зимой есть зеленый, по-летнему пахучий суп. Все лето будешь разъезжать с мужем по дальним озерам, готовить бересту, ловить рыбу, твои руки будут в мозолях от весел. Подойдет осень, и ты вновь дни напролет будешь свежевать кету, вялить юколу. Вернувшись домой, ты при свете жирников начнешь готовить мужа на охоту: другого времени, кроме ночного, у тебя не будет.
Почему ты, Оба, согласилась, чтобы Токто женился на Кэкэчэ? Ведь все же он спрашивал твоего согласия. Ты согласилась, вспомнила все бессонные ночи и согласилась. Прежде всего ты подумала о бессонных, мучительных ночах, потом только подумала о детях, которых так жаждет Токто.
Ты никогда не знала отдыха. Вот и сейчас хлопочешь в доме, все дела приняла на себя, чтобы дать покой двум беременным молодым женщинам. Ради чего это ты делаешь? Любишь их? А ведь одна из них твоя соперница, ты с ней делишь Токто. Доброе у тебя сердце, Оба!
Последнее хочу у тебя спросить, ласковая Оба: ты познала в жизни счастье? Не знаешь, что такое счастье? Счастье — это... Но, может, ты была счастлива в первые дни замужества? Может, после рождения первого ребенка?
Молчишь. Твои ласковые глаза, словно рыбки, пойманные сетью — морщинками; руки твои маленькие, в сплошных мозолях, какие редко встретишь у мужчин-охотников; вся ты выглядишь усталой, всегда озабоченной, много старше своих тридцати с небольшим лет.
Отдохни, милая Оба, отдохни!
Восьмой месяц беременности Кэкэчэ. Новые хлопоты, появились у Обы: восьмой месяц — самый опасный месяц, в это время беременной, как никогда, надо беречь себя, остерегаться всего, чтобы не погубить ребенка. Оба, как и Кэкэчэ, не знала всех запрещений, распространявшихся на будущую мать, и расспрашивала опытных старушек. Больше всех знала старушка Кисоакта, жена Пэсу Киле, она и раньше просвещала их.
— Шить что-нибудь со дном нельзя, — говорила она. — Роды будут тяжелые, плод застрянет.
— Что, например?
— Мешки нельзя, наволочки. Потом ты, Кэкэчэ, ничего не клей, не ешь подгорелую корку от каши, не крути чего-нибудь — пуповина обмотается вокруг шеи, и он задохнется.
Оба теперь следила, чтобы Кэкэчэ не делала что-либо предосудительное для беременной женщины, и бегала за советами к старушке.
— Береги ее, Оба, береги очень, вам надо ребенка, муж у вас тоскует по детям, — говорила Кисоакта. — Столько детей у вас умерло, надо хоть этого сохранить. Почему я тебе повторяю «береги, береги Кэкэчэ»? Когда в доме две работящие женщины, то беременная чувствует себя спокойно, тяжелую работу не выполняет, потому и роды бывают у нее легкие. Поняла? А нам, одиноким, всегда тяжело было, да к тому же глупые мужья мешают родам. Помню, как я мучилась, когда рожала Годо, ох, помучилась, думала, не выживу. А во всем виноват муж: вздумал в этот день ремонтировать лодку. Вышел он на берег, снял с лодки старую сломанную доску и заменил новой, а когда меняют доски, без гвоздей не обойдешься, он взял да приколотил эту доску гвоздями. А я мучаюсь в чоро, чуть не умираю. Старушки сидят рядом, помогают, да ничего не выходит. Начали ,они гадать, отчего бы могли быть такие трудные роды? Гадали-гадали, да в это время пришла еще одна старушка к говорит: «Чего гадаете, пойдите посмотрите, что делает ее муж!» Тут побежала моя мама, она еще жива была, на глазах заставила его вытащить все забитые гвозди. Вытащил муж гвозди, и я быстро родила. Веришь, без труда родила...
— А наш муж далеко, кто знает, что он будет делать во время родов, — вздыхала Оба.
— Это плохо, когда мужа нет в стойбище, очень плохо.
Оба не пересказывала молодым женщинам этих историй — зачем зря стращать молодых? Теперь она разрешала Кэкэчэ только вышивать. Кэкэчэ надела самые старые, ни к чему не пригодные лохмотья, перешла на худшую часть нар, отделилась от Обы и Идари, потому что она уже была «грязная», ожидала ребенка. Оба кормила ее из отдельной посуды. Но Идари, на правах будущей роженицы, целыми днями просиживала рядом с Кэкэчэ.
Подруги вышивали, весело переговаривались.
— Сын, наверно, будет, он так хотел сына, — говорила Идари. — Верно, Кэкэчэ, сын у меня будет?
— Я не разбираюсь, приметы надо знать, — отвечала Кэкэчэ.
Чоро — юрта роженицы.
Слушая разговор молодых женщин, Оба пыталась по приметам отгадать, у кого кто родится. Особенно присматривалась, как женщины выходят из дома. Старушка Кисоакта сказала, что если роженица переступает порог каждый раз только левой ногой, то непременно родится мальчик, а если переступает то левой, то правой — надо ждать девочку. По этой примете и определила Оба, что у Идари должна родиться дочь...
— У меня будет сын, а у Кэкэчэ будет дочь, — мечтала Идари. — Вырастут они, и мы их поженим. Как хорошо!
— Это не мы решаем, это дело отцов.
— Я скажу своему, чтобы он договорился с вашим. Эгэ, верно я говорю?
— Верно, верно, Идари. Поженятся наши дети, народят детей, и мы будем нянчить внуков, какая это будет радость!
И все трое принимались мечтать, какими смелыми, удачливыми охотниками будут их сыновья, внуки, какими красавицами дочери, такими, чтобы не стыдно было просить тори.
Приближались роды Кэкэчэ. Роженица была спокойна, волновалась только Оба.
Месяц февраль оказался злее января, морознее, с метелями, и Обе жалко было отправлять Кэкэчэ в юрту роженицы. Как ни утепляй чоро, хоть дни и ночи жги там костер, все равно мороз и ветер проникают в юрту. Оба знает, как холодно, как тяжело приходится роженице зимой!
«Почему эндури не сделал так, чтобы женщины рожали только летом?» — думала Оба.
Оба все чаще подумывала, нельзя ли Кэкэчэ рожать дома, на полу, на сухой траве. Этими мыслями она поделилась со старушкой Кисоактой.
— Ты с ума спятила? Ты же свой дом опоганишь! — закричала старушка. — Как потом мужчины станут жить в этом доме, ты подумала?
— Морозы же сильные, жалко...
— Все женщины рожают в чоро, она тоже родит там. Я сама не раз рожала в морозы и ветры, ты тоже рожала — все рожали! Ое-ее, до чего ты додумалась, дома рожать, дома, где живут мужчины!
Узнав об этом разговоре, запротестовала и сама Кэкэчэ:
— Эгэ, ты хочешь, чтобы надо мной все стойбище смеялось? Все женщины в чоро рожают, а меня хочешь заставить рожать дома? Да мне же потом проходу не дадут, даже дети станут надо мной смеяться, — сказала Кэкэчэ с горечью. — Нет, эгэ, я буду рожать в чоро!
Оба не настаивала, она устроила в тайге, среди низких густых кустов, юрту роженицы, утеплила ее хвоей, завалила, сколько можно, снегом и, как только у Кэкэчэ начались схватки, привела ее в чоро.
Все старушки Полокана тотчас об этом узнали, и одна за другой побрели в чоро. Одни шагали, заложив за спину руки, другие опирались на палку, третьи согнутые как коромысло, еле передвигали ноги и все же шли в чоро, чтобы помочь молодой женщине советом, участием, теплым словом. Верховодила в чоро старушка Кисоакта.
— Не стони, крепись, милая, не кричи, люди потом будут смеяться, — говорила она ласково, когда Кэкэчэ издавала стон.
— Водку будем пить! — радостно сообщила она, приняв ребенка, это значило — родилась девочка. — Будем гулять, пить водку на ее свадьбе.
— Чего она голос не подает? Мать Годо, что с ней такое? — заволновались старушки.
Но в это время раздался негодующий, захлебывающийся крик, он серебряным звоном отозвался в ушах старушек, и они заулыбались, радуясь рождению ребенка, радуясь тому, что им пришлось перед смертью присутствовать при появлении на свет нового человека. Оба помогла Кисоакте завернуть ребенка в тряпье, не в силах отвести глаз от красного детского личика. По щекам Обы текли слезы.
«Наш ребенок, девочка ты наша родненькая», — шептала она.
— Оба, почему ты здесь? Мы должны скрыть ребенка от злых духов, след его на земле должен затеряться, — прошамкала Кисоакта.
И Оба вспомнила об одном очень важном обряде, который должен был сбить с толку злых духов.
— Ты только кричи громче, не жалей голоса, ног не жалей, — напутствовали ее старушки.
Оба побежала в стойбище, бежала и видела перед собой морщинистое красное личико. Слезы ее высохли на морозе, остались только две еле заметные полоски на смуглом лице. Возле фанзы стояла озябшая Идари.
— Эгэ! Ну как? — кинулась она к Обе.
— Девочка, Идари, девочка!
— Ой, как хорошо! Как хорошо! Я знала, что будет девочка.
— Человек, Идари, человек появился на свет!
Оба побежала в амбар, вынесла юколу — костяк большой кетины с острыми зубами. Пока она спускалась по лесенке, у амбара собралось с десяток своих и чужих собак. Оба бросила им костяк. Собаки набросились на него, и завертелся живой клубок из рыжих, черных, полосатых тел, пушистых хвостов, растопыренных ушей, оскаленных пастей.
— Что вы делаете, что вы делаете?! — бросилась в сторону собачьей своры Оба и попыталась отнять юколу, но тут хребтину выхватила самая шустрая полосатая собака и побежала по стойбищу. Оба со всех ног бросилась за ней.
— Собака, верни мне ребенка! Люди, помогите! Собака утащила моего ребенка!
Идари тоже побежала за Обой.
— Люди, помогите! — вопила она. — Нашего ребенка утащила собака. Загрызу-ут!..
Из фанз выбегали женщины, дети, выскочил единственный мужчина в стойбище старик Донда Бельды — все побежали, заковыляли за сворой собак. Полосатая собака, испуганная криками, оглянулась и, увидев преследующих ее людей, бросила костяк и спряталась под амбар. Раздосадованная Оба остановилась, чтобы не напугать остальных собак, подождала, пока костяк окажется в зубах другого пса, и опять завопила:
— Держите, отберите ребенка!
Все стойбище было на ногах, все вышли помочь в беде Обе. Женщины бежали, вопили, не жалея глоток, и, догнав Обу, хрипло шептали:
— Хорошо кончилось? Кто?
— Девочка! — отвечала Оба вполголоса.
— Девочка, девочка, — передавали женщины одна другой. Даже глуховатый старик Донда Бельды узнал, что Кэкэчэ родила девочку.
А черный пес не хотел уступать вкусный костяк бегущим рядом собакам, острый запах сушеной кеты дразнил его, гнал в сторону тайги. Оба устала.
— Утащили ребенка, утащили! — кричала она, и неподдельные слезы брызнули из глаз. — Люди, смотрите, новорожденного утащил этот пес.
— Убить тебя мало, пес! — вторили женщины.
Оба была довольна, собака не отдала костяк, утащила в тайгу. Теперь всякая беда отведена от новорожденной. Злые духи, наверно, радуются, что новорожденного утащила собака. Это хорошо, теперь им незачем строить всякие козни.
Когда она вернулась в чоро, Кэкэчэ, побледневшая, измученная, пила горячий чай.
— Хорошо ты кричала, отсюда даже слышно было, — похвалила Обу Кисоакта.
Через несколько дней Кэкэчэ вернулась в фанзу, устроилась на тех же нарах, на которых лежала в предродовые дни. Она не снимала с себя лохмотьев, ела из отдельной посуды — ей еще три месяца предстояло ходить в рубище, лежать отдельно, три месяца считаться грязной.
В фанзе по ночам становилось холодно, вода в ведрах покрывалась ледком.
Старушка Кисоакта навещала молодую мать каждый день, в иные дни заходила и утром и вечером.
А через десять дней Оба, поднявшаяся на ноги Кэкэчэ, Идари пригласили к себе всех жителей Полокана. Гости ели щедро заправленную рыбьим жиром кашу, пили боду и дарили новорожденной кто ткани на одежду, кто женскую безделушку. Одна принесла берестяной туесок и сказала:
— Будь самой проворной ягодницей, за тобой не должны угнаться даже трое женщин.
Другая подарила чуруэн и сказала:
— Твоя мать самая лучшая вышивальщица в Полокане, но ты будь еще лучше ее, твоими узорами должны восхищаться все нанай.
«А моему сыну будут дарить все охотничье», — думала Идари, разглядывая подарки.
— Дада, дочери уже надо люльку, мы свою в тайге оставили, несчастливая она была, — сказала Оба своей советчице Кисоакте.
— Отдадим нашу, она счастливая, все дети мои в ней спали, внуки спали, — ответила Кисоакта. — Принесу с бусами, с побрякушками.
Оба осталась довольна, люлька семьи Пэсу считалась счастливой, об этом знали в стойбище все. Бусы люльки тоже счастливые — все дети Пэсу выросли остроглазыми благодаря этим бусам. Побрякушки тоже не хуже бус: дети Пэсу не страдают ушными болезнями и глухих нет среди них. Оба слышала, что вместе с побрякушками висит коготь медведя-шатуна, этот коготь, говорили, отпугивает всех злых духов от младенцев, и потому дети Пэсу и его внуки редко болели.
«Принесет дада коготь медведя или нет?» — гадала Оба.
Вечером старушка Кисоакта притащила люльку с дужкой над изголовьем, на дужке висели светлые, как родниковая вода, голубоватые бусы. По обеим сторонам люльки, напротив ушей ребенка, висели побрякушки. Среди побрякушек выделялся черный огромный медвежий коготь.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
В эту зиму Ваньке Зайцеву не повезло. Три дня потерял безвозвратно, ожидая своего напарника — рогатиной ему в бок! — Митрошку Колычева. Наконец дождался Митрошку, конечно, не обошлось без ругани, — как же не поругать за потерянные дни? Двинулись в путь по следу гольдских нарт из стойбища Нярги, но тут повалил густой снег и скрыл следы. Ванька знал дорогу, он уже не раз охотился на Сихотэ-Алине, где ему молчаливо уступил свое угодье джаринский гольд.
— Виноватый ты, Митрошка, ремнем бы тебя отстегать, — ворчал Ванька. — От гольдяков отстали, легче было бы по их следу идтить...
— Чего ты душу топчешь, Ванька, который раз об этом вторишь! — сердился Митрофан, — Сам знаю, виноватый, женка приболела.
Ванька Зайцев догонял Баосу с сыновьями, с ним ему было бы веселее идти, чем с Митрошкой, который все никак не может приладиться к лыжам, к нартам, привыкнуть к тайге. Да что там говорить, его даже собственная собака не слушается!
Переждав пургу, Ванька решил идти напрямую, сокращая расстояние, и забрел в одно место, где собольих следов было столько же, сколько куриных во дворе Колычевых. Решили остановиться, обследовать местность, но на следующий же день наткнулись на следы чьих-то лыж, а когда стали расставлять самострелы, явился хозяин участка, высокий угрюмый гольд.
— Русский, уходи! — потребовал он.
— Зачем ты нас гонишь? — спросил Митрофан по-нанайски. — Тайга большая, соболей много.
— Ищи где больше, — ответил охотник, — а отсюда уходи. Не смей ставить самострелы — все переломаю.
Ванька заупрямился, ему не хотелось покидать это богатое соболями место. Но через день явились уже двое охотников, встали за деревьями, нацелили ружья и потребовали:
— Завтра чтобы вас тут не было!
— Не запугивай, стервец! — закричал Ванька. — Русского человека не запугаешь! Откуль ты такой ерой явился.
— Сакачи-Алян знай твоя? Два дня погоди — узнаешь, — ответили из-за деревьев.
Ванька ничего не ответил, но сразу начал собирать вещи и в этот же день снял ближние самострелы.
— Лихоимцы они, с хунхузами якшаются, людей убивают, — сообщил он Митрофану.
После нескольких дней трудного пути по глубокому снегу Ванька прибыл на свое охотничье угодье. Полмесяца дорогого времени было потеряно, и поэтому он торопился, не стал строить охотничью избушку, а поставил на скорую руку нанайскую аонгу из хвои и начал расставлять самострелы, выслеживать кабанов, кабарожек. Летом он обещал учить Митрофана охотничьим премудростям, но сейчас позабыл об этом и только по вечерам, при свете жирника, объяснял, на каких тропах и как ставят самострелы.
— Ох ты, какой неловкий! — возмущался Ванька. — По-гольдски балакать научился, пошто самострелы не могешь поставить?
— Чего же ты по-гольдски не научился балакать? — отвечал Митрофан. — Якшаешься с ними тоже зимой и летом.
— «По-гольдски не умеешь»! Понимаю ихний разговор, да только слов не выговорю. Тыр-мыр, и весь разговор.
На Ванькины самострелы не попадались соболи. Он все мрачнел и еще с большим остервенением принялся за выслеживание зверьков. Однажды ему удалось догнать и на дереве подстрелить соболя, другой раз дымом выкурить из норы и поймать сеткой, и только после этого зверьки начали попадаться на его самострелы.
Митрофан тоже выставил все самострелы и капканы, но, к его удивлению, маленькие хищники далеко обходили их, а иные перепрыгивали через капканы и убегали широкими махами в сторону, будто кто гнался за ними по пятам. Митрофан не мог разобраться, в чем тут дело, расспрашивал Ваньку, но тот и сам не знал, что посоветовать.
— Надо Поде помолиться, — заявил он однажды. — Только, думаю, русского нашего языка он не разберет и удачи не принесет.
— Это кому молиться? Хозяину тайги, что ли?
— Ему, ему, сердечному, он всем помогает.
— Что ты, Вань, по-правдашнему молиться станешь?
— Какой бог мне удачи даст — тому молиться буду, — ответил Ванька и бросил на огонь кусок сухаря. — Откушай, Подя, нашего хлеба и добротой отвечай.
«Вот это христианин! — подумал Митрофан. — За соболя Христу изменил».
Когда соболи начали попадаться на самострелы, Ванька перестал креститься и за едой бросал кусок сухаря, мяса в костер и непременно говорил: «Откушай, Подя, нашего русского хлеба».
— Ты тоже бросай крошки — не жалей, — советовал Ванька Митрофану.
«И правда, что от того может случиться, если я брошу кусок сухаря в огонь? Ничего. Я не верю гольдскому богу, просто бросаю крошки в огонь», — подумал Митрофан и тоже стал бросать сухарики в костер.
Но соболь не шел на самострелы, по-прежнему стороной обходил их. Митрофан совсем приуныл и стал корить себя, что бес его попутал идти на этого проклятого соболя, лучше бы остался дома, как сделал отец, и гонял бы на своей лошадке почту и почтовый груз по Амуру — глядишь, за зиму заработал бы немалые деньги. Обходя самострелы, он часто вспоминал Пиапона. Однажды совсем было собрался идти к нему в зимник, да сам испугался своей смелости: он не знал тайги, до сих пор не умел в ней ориентироваться и мог бы сразу заблудиться. Даже проверять самострелы он ходил по одной и той же лыжне и, чтобы не потерять тропу после снегопада, сделал зарубки на деревьях, через каждые двадцать шагов.
— Да-а, Митроша, поводыря в тайге не сыщешь, разве медведь пойдет, — говорил Ванька.
К нему вернулась охотничья удача, он повеселел, вновь стал разговорчивым.
— Учись, Митроша, зверей бить, не пугайся тайги, — советовал он напарнику. — Зимой заблудиться трудно, нельзя заблудиться. Вот я куда хошь пойду с завязанными глазами. Веришь?
Ванька Зайцев рос в Сибири, он с детских лет был знаком с тайгой и, кроме охоты, ничего не знал и признавать не хотел. На землепашество смотрел так же, как смотрели охотники-нанай. «Пушнину добуду, и мука будет, крупа, сахар, табак», — рассуждал он. Летом Ванька тоже бродил по тайге — искал золото. В окрестностях озера Шарго он обошел все малые и большие ключи и речки. В отдельных шурфах ему попадались золотинки, но забитые рядом другие шурфы приносили только пустую породу. О поисках золота Ванька никому не проговаривался. Соседи даже не догадывались об этом. Когда он исчезал из дому, жена пускала слух, что муж уехал на охоту.
— Я гляжу на ваших, которые землю роют, и думаю — скоро кончите копаться, — продолжал Ванька развивать свою мысль. — Глянь, гольдяки никогда огорода не имели, а живут. Я не нахал землю — тоже живу. Маленький огород жинка разроет. На Амуре охотой надо заниматься, пушнина — это мука, это хлебец!
«Может, это и верно, — думал Митрофан, — мужчины могут подзаработать зимой на сене, осенью — кету ловить. Можно охотиться, можно почту гонять — всюду заработок. А все же пахать тянет, как же русский мужик проживет без сохи, когда под ним парная земля?»
В такие минуты раздумий Митрофан непременно вспоминал свою деревушку, пашню весеннюю.
— Ты, Вань, вспоминаешь Сибирь? — спрашивал он.
— Чего я там забыл? На Амуре такая же тайга, могет, дажет получше. Чего Сибирь-то вспоминать?
— Ты же там родился?
— Родился — чего из энтово? Родился, встал на ноги да убег пешочком.
— А я Расею вспоминаю. Худо жили, много хуже, чем сейчас, а мила Расея-то.
— Везде хорошо, где сытно.
Митрофан не вступал в спор с Ванькой, он просто не хотел разговаривать с ним. Лучше уж помолчать да помечтать о чем-нибудь или гадать, что делает в это время Наденька; может, еще за столом сидит, может, сына с дочерью укладывает, а может, уже спит и тоже думает о нем, тоже гадает: как там муж? Неудача расхолодила Митрофана к охоте, он теперь проверял самострелы и капканы через три-четыре дня, а в остальное время бродил по тайге в надежде на случайную встречу с соболем или кабаргой, но возвращался с одной или двумя белками и рябчиками. Отходить от аонги далеко он по-прежнему страшился и ходил обыкновенно так: полдня уходил от зимника в направлении какой-нибудь сопки, а потом возвращался по своему следу и, как бы след ни кружил, в точности повторял его.
А по вечерам, когда Ванька рассказывал, как преследовал соболя или кабаргу, как хитрили звери, а он отгадывал их хитрость, Митрофан с тоской вспоминал дом, подсчитывал, сколько бы мог подзаработать, если бы послушался отца и гонял почту. Митрофан стал молчаливым, задумчивым. В это тяжелое для него время однажды вечером в зимник пришел Пиапон.
— Мать честная, пресвятая богородица, это ты, Пиапон? — Митрофан обнял друга, приподнял и повалил.
Пиапон вскочил на ноги, и друзья вновь схватились.
— Митрошка, белены объелся, что ли? Дай человеку отдохнуть! — кричал Ванька.
Друзья кружились, сопели, потом оба свалились в глубокий снег и зафыркали.
— От вам, барсуки, от! — кричал Ванька и ногами греб на них снег.
Пиапон с Митрофаном поднялись, взглянули друг на друга и расхохотались.
— Белены объелись, точно, объелись!
Митрофан отряхнулся от снега и усмехнулся:
— Чего кудахчешь? Ишь раскудахтался.
И он ловкой подножкой свалил Ваньку и стал загребать его снегом.
— Ну, как? Как? Сладенький снежок? Тепленький? Вот так-то, Ванька.
— Кончай, барсучина, кончай! — кричал Ванька.
Митрофан с Пиапоном насмеялись вдоволь.
— Спасибо тебе, Митрофанушка, умыл меня, — смеялся и Ванька, утирая лицо.
Митрофан с Ванькой потеснились в маленьком зимнике, кое-как устроили Пиапона, сложили его вещи, напоили чаем, накормили мясом.
Разговор между друзьями ни на минуту не прекращался, в этот вечер они о многом поведали друг другу.
— Чего это вы одни гыр-гы-гыр, — возмущался Ванька. — Я тут лишний, што ли?
— Ванька, твоя почему Митропан не помогай? — спросил Пиапон.
— Помогал, как не помогал? Показывал я, Митроша, как самострелы ставить?
— Показывал в зимнике, а не на тропе.
— От-от, показывал, Пиапон. Помогал ему, советовал.
Пиапон замолчал, попыхивая трубкой.
— А ты, Пиапон, сколько соболей добыл? — спросил Ванька.
Пиапон зло сверкнул глазами.
— Тебя, дурака, Ванька! Тайга много ходи, а закона тайги не знай. Тайга не говорят, сколько поймал.
— Не говорят — и хорошо делают. Не знал я энтова закона ране.
Наступило неловкое молчание.
На следующий день Пиапон взял больше десятка самострелов и пошел по тропе Митрофана. Не отошел он, как ему показалось, и тысячи шагов от жилья, как Митрофан остановил его и ткнул в сторону:
— Вот первый самострел.
Пиапон снял лыжи и подошел к самострелу, осмотрел и попросил снять. Через сотню шагов стоял другой самострел, который тоже пришлось забрать с собой.
— Не умеешь ставить, место не выбираешь, — сказал Пиапон.
За полдня они осмотрели все самострелы, многие сняли и перенесли на новые места. Пиапон сам выбирал место, приглядывался и словно принюхивался, потом хвоей натирал руки, лук, тетиву и стрелу и тогда только ставил самострел.
— Руки наши всегда пахнут потом, и соболь на расстоянии унюхает пот, понял? Вот, смотри на этот след, он бежал, спешил куда-то по своим делам, потом раз — и отскочил от тропы. Почему? Может, он запах унюхал, потому испугался.
— Почему ты говоришь «может, унюхал»?
— Потому что, может, он и не унюхал, а его отпугнули.
— Кто?
— В тайге всякое бывает. Посмотрим.
Пиапону не поправилось, как Митрофан выставил капканы. Сам он тоже впервые в жизни нынче имел дело с капканом, но охотничий опыт и смекалка помогли ему сразу приловчиться к нему. Митрофан выставил капкан на гладкой тропе, по которой соболь мог идти шагом, а мог бежать и рысцой или махом и при этом мог перепрыгнуть ловушку. Если бы Митрофан имел охотничий опыт, то он разыскал бы на этой тропе такое место, где тропу загораживала ветка или валежина, через которые перепрыгивают все зверьки, даже те, которые идут неторопливым шагом. Только на таком месте выгодно ставить капканы — это ясно каждому таежнику.
Не понравилось Пиапону и то, что Митрофан выкопал на тропе лунку, в ней насторожил капкан и засыпал снежком. Пиапон сам сперва так ставил свой единственный капкан, но первый же соболь, как сумасшедший отпрыгнувший с тропы, заставил его призадуматься. Соболь очень хитрый зверек, у него удивительная память, стоит на его постоянной тропе переломить прутик, веточку, как он сразу заметит перемену. А разрытую тропу и свежий снежок замечает издали.
Пиапон долго искал место для капкана, наконец нашел и приступил к делу. Он разрыл под тропой снег, сверху осталась тонкая корка отвердевшего наста, но Пиапону она показалась толстой, и он начал ножом осторожно скоблить ее и скоблил до тех пор, пока снежная корка стала не толще бумаги.
— Теперь хорошо, — сказал он удовлетворенно. — Но капкан надо хвоей натереть, все равно он и из-под снега будет пахнуть железом и маслом. Не жалей хвои, в тайге ее хватит, три сильнее. Не бойся, железо не перетрешь, — подбадривал он Митрофана.
Закончив с самострелами Митрофана, он пошел дальше выискивать новые тропы, чтобы выставить свои самострелы. Митрофан увязался за ним.
— Хорошо, Митропан, следы есть, — говорил довольный новым местом Пиапон. — Соболь есть, хвостов пятнадцать бегают.
Он тщательно осматривал тропы и свежие следы и очень скупо, как показалось Митрофану, расставлял самострелы.
— Смотри, Митропан, понгол побежал, завтра надо побегать за ним, — говорил Пиапон, тыча палкой в след кабарги.
Он был настроен на шутливый лад. Митрофан тоже был доволен: за один день с Пиапоном познал столько, сколько он не узнал бы за всю зиму, если бы жил только с Ванькой Зайцевым. Он воспрянул духом, теперь, ему казалось, удача должна была прийти. Пиапон учил Митрофана выслеживать кабаргу, ставить на них петли, ловушки, потом они гнались за двумя кабарожками по свежему следу. Только до первого спуска с сопки Митрофан держался за Пиапоном, а дальше потерял его из виду и побежал по следу в надежде догнать на ближайшем подъеме.
Митрофан следовал за Пиапоном как хвост. Пиапон был не против, и они вдвоем проверяли самострелы, петли, ловушки, охотились на кабанов, на кабаргу. Пиапон за полмесяца добыл сеткой двух соболей, но на его самострелы зверьки не попадались. Митрофан, напротив, на самострелах поймал семь соболей и был несказанно рад.
— Плохи дела, — вздыхал Пиапон. — Злой дух здесь бродит, охотиться мешает, зверей пугает.
— Что будешь делать, Пиапон? — сочувственно спросил Митрофан.
— Скоро охота кончается, можно домой идти, — ответил Пиапон.
— Я тоже тогда не останусь, — заявил Митрофан.
Пиапон с Митрофаном сняли самострелы, петли, ловушки, собрали все вещи и уложил на парты.
Был полдень. Набравшее силу солнце пригревало тайгу, зверей, людей и собак. Пиапон запряг прыгавшую от радости собаку.
— Только утром выходи рано, не бойся, не заблудишься, иди прямо по моему следу, — говорил Пиапон оставшемуся по его просьбе Митрофану. — Ваньке скажи, пусть будет ему удача, пусть охотится.
Пиапон сдвинул с места нарту и медленно пошел вслед за солнцем в сторону запада. Тяжело нагруженная мясом нарта утопала в снегу, и Пиапону приходилось лыжами протаптывать ей широкую дорогу. Собака всеми четырьмя лапами погружалась в пушистый снег и тянула нарту совсем слабо. От нее не было никакой пользы. Пиапон оставил нарту и начал протаптывать дорогу. Так он до вечера все же добрался до широкой мари. Здесь он остановился на ночлег. Выпив чайку, надел лыжи и начал прокладывать дорогу через марь, через мелколесье к речке. Только к ночи закончил работу и вернулся к месту ночлега.
«К утру дорожка крепко застынет», — подумал он.
Пиапон подогрел холодное мясо, вскипятил чай, плотно поел и закурил трубку, уставившись немигающими глазами на огонь костра. Впервые в жизни не повезло Пиапону на охоте. Почему это так произошло? Может, он зря погорячился и ушел из аонги отца? Ведь там соболь с охоткой шел на его самострелы, когда гонялся за ними, они не убегали далеко, а прятались в первой попавшейся норе — все это говорило, что Подя там благосклонно относился к нему. Но почему на новом месте отвернулся от него? Может, ему не понравилось, что Пиапон учил таежному делу русского друга? Русского друга Пиапон не мог оставить без помощи. Как бы Подя ни сердился на него, он не мог не помочь человеку, потому что у него дома жена, дети, они просят есть, и русский пришел в тайгу за соболями, чтобы накормить свою семью. Нет, тут дело не в русском друге, ведь с ними вместе в одной аонге жил другой русский, он при Пиапоне только снимал шкурки с шести соболей. Почему Подя давал соболей одному русскому, а другому не давал? Нет, конечно, тут не русский виноват. Но за что Подя возненавидел его?
Как ни пытался Пиапон припомнить все подробности нынешней охоты, никак не мог вспомнить, когда совершил предосудительный поступок, за что бы его мог наказать Подя. Нет, он нигде не переступил закон тайги и охоты. Выходит, только одно — Подя возненавидел его за что-то другое. Но за что? Причина какая должна быть? Ну, ладно, Подя...
— Дорога подмерзнет! — сказал опять Пиапон.
«Эх, был бы я сильный духом человек, я бы боролся с Подей, победил бы его и сделал послушным, как свою собаку. Но почему я не обладаю этой силой?»
— Хорошо подмерзнет, — почти застонал Пиапон. — Слышишь, Кури, дорога подмерзнет, — сказал он собаке. — Подмерзнет. Спать пора.
Кури лежал возле костра, открыл тяжелые сонные веки и с удивлением уставился на хозяина. А Пиапон говорил и говорил первые попавшиеся слова, чтобы отвлечься и не возвращаться вновь к тяготившим его мыслям.
Свежий ветерок мел поземку на мари, но среди деревьев его не было заметно, только высоко в кронах кедрачей он шуршал хвоей.
«Только бы дорогу мою не замело», — подумал Пиапон, засыпая под мерцавшими звездами. За ночь он просыпался много раз, подкладывал в костер сучья, поворачивался к огню подмерзшим боком и опять засыпал. На рассвете опять подложил дров в костер и попытался уснуть, но сон не возвращался, не окутывал его в свою волшебную кисею. Пиапону некуда было торопиться, и он продолжал лежать возле костра. Только после восхода солнца встал, убрал спальный мешок и поставил на огонь круглый котел с чумизой. Чумиза разварилась, котел сердито булькал на огне. Пиапон сдвинул нарту с места, подтащил к дороге, сложил на нее все вещи, перевязал ремнями. Возле котла с кашей лежал позабытый хозяином топор. Пиапон запряг собаку, зачем-то лыжи положил на нарту и привязал ремнем. Нарта была снаряжена, перекинуть ремень через голову — и в путь. Пиапон подошел к котлу, помешал палочкой кашу и бросил в котел большой кусок белого твердого лосиного жира. Белый кусок жира стоймя стоял в середине булькающей желтой массы, медленно таял и исчезал. Пиапон снял котел с тагана, перемешал кашу с жиром.
— Кя, Подя! Добрый, щедрый Подя! — закричал он. — Ухожу я из твоих владений, ухожу, помня твою доброту, твою щедрость. Приходи сюда, добрый Подя, позови всю свою семью, пусть все отведают мою прощальную кашу. Я хочу на прощание поблагодарить тебя, Подя. Спасибо, спасибо! Подсаживайтесь ближе к котлу, угощайтесь все, ешьте вдоволь. Для вас я сварил эту кашу, вас только угощаю.
Пиапон двумя палочками ловко подхватил немного каши, пожевал и проглотил.
— Угощайся, добрый Подя, не обессудь меня за бедное угощение, приду в следующем году, привезу лучшую крупу, может, даже рисовую кашу тогда сварю. Угощайся, Подя! Пиапон внезапно перевернул котел и с размаху ударил топором по черному днищу.
— Иа, получай, паршивый старикашка! Будешь знать, с кем имел дело!
Пиапон бросил тут же топор, одним прыжком оказался впереди нарты, набросил ремень на плечо и побежал по протоптанной тропе. Он бежал что было мочи, задыхался от напряжения и широко открытым ртом вбирал в себя воздух. Голова кружилась, сердце вырывалось из груди, подкашивались ноги, но он бежал. Пересек марь, мелколесье, перебежал речушку и остановился там, где кончалась дорога. Здесь он лег на нарту и долго лежал, не в силах отдышаться. Горячий пот на лице высох на морозе, выступивший сквозь куртку пар остывал, и куртка обросла белой изморозью. Наконец, пошатываясь, он поднялся, выпрямился и долго смотрел на черневшую за марью тайгу.
— Не догонишь теперь, вонючий старикашка, мой топор раскроил твой череп.
«А если его не было в котле? Если он не успел туда забраться? — с поздней тревогой подумал Пиапон. — Пройдет через марь, перейдет речку? Не должен пройти, не должен: во всех сказаниях, легендах говорится, что он не выходит из своих владений, а марь и речки совсем не может переходить».
Пиапон набрал сухого тальника и разжег костер. В полдень на мари показался Митрофан, он быстрым шагом приближался к Пиапону.
— Что ты там сделал? Топор оставил, котел с кашей зачем-то расколотил, — спросил он поздоровавшись. — Зачем расколол котел?
— Он мне не нужен был, и я расколол.
— Не жалко?
— Чего котел жалеешь? — рассердился Пиапон. — Не котел я расколол, а череп жадному Поде раскроил, понял? Я Подю убил, отомстил за тебя и за себя!
Митрофан, к удивлению Пиапона, ничего не стал спрашивать, не таращил глаза, он будто не слышал ответа Пиапона или воспринял убийство Поди как обычное каждодневное явление и никак не выразил своего отношения к подвигу друга. Он вытащил из-под груза топор Пиапона и сказал:
— На, возьми. Топор торговцы дорого оценивают, он стоит дороже десяти черепов Поди. Он пригодится еще, ведь дом собираешься строить!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
В лицо дул неприятный колючий низовик и вихрил на протоке поземку. Солнце опускалось все ниже и ниже, из яркого оно сделалось огненно-красным, потом рыжим. Мороз заметно крепчал, усиливался низовик.
Впереди справа вытянулся длинный тальниковый остров Чисонко, а через протоку слева желтел обрыв другого острова, на котором стояло родное стойбище Нярги.
Пиапон вышел на дорогу, проложенную женщинами, ездившими за дровами, полозья тяжелой нарты больше не резали отвердевший снег, они легко скользили по протоптанной дороге. Собака учуяла родное стойбище, узнала знакомые места и начала тянуть что было силы, шейный ремень давил горло, и она дышала тяжело, со свистом и хрипом.
— Митропан, переночуй у меня, утром пойдешь домой, — предложил Пиапон напарнику.
— Нет, Пиапон, осталось раз плюнуть, и я дома, — ответил Митрофан. — Да и не усну — рядом жена и дети. Сегодня я должен спать с женой. Соскучился по ней.
— Низовик усиливается, темно будет.
— Доберусь, Пиапон, обязательно доберусь.
— Как хочешь, Митропан.
Пиапон глядел на стойбище и все надеялся, что заметят его какие-нибудь мальчишки-шалопаи и побегут встречать. Как приятно, когда видишь бегущих к тебе ребятишек, хоть знаешь, что это не твои дети, а все же тепло и радостно становится. Хотя бы один мальчишка взглянул в его сторону, он бы сразу узнал охотников, он бы сейчас же поднял все стойбище!
— Митропан, как я не мог сразу сообразить, дурак! — воскликнул Пиапон уже на берегу стойбища. — Я тебе дам упряжку собак, и ты быстро, сидя на нартах, доедешь до Малмыжа. Как это сразу не сообразил! Пошли, пошли ко мне, пока будешь пить чай, я тебе соберу упряжку собак.
Пиапон стал подниматься домой, и только тут из дома выбежала Дярикта, без платка, в одном домашнем халате. За ней выскочила старшая дочь Хэсиктэкэн и, опережая мать, подбежала к отцу и бросилась на шею. Пиапон обнял ее, поцеловал и посадил верхом на нарту. Подошла Дярикта, ухватилась за ремень и стала помогать мужу.
— Отец Миры, дом наш опустел, лучше об этом сразу тебе сказать, — пробормотала Дярикта.
У Пиапона сжалось сердце от предчувствия беды.
— Договаривай, если начала, — сказал он.
— Средняя наша дочь умерла, десять дней назад умерла, — всхлипнула Дярикта. — По-всякому пыталась спасти, но не смогла.
«Дочка, маленькая Анга, умерла. Как же это так?»
Митрофан, увидев плакавшую Дярикту, догадался, что дома у Пиапона случилось несчастье.
— Пиапон, друг, что случилось? — спросил он.
— Средняя дочка умерла. Дярикта, не плачь, что же теперь делать. Согрей чай, напои Митропана.
Женщины соседних домов, увидев Пиапона, бежали к нему, расспрашивали о своих мужьях. Прибежали Майда, Исоака, Агоака.
— Ага, ты один вернулся? А где остальные? — спросила Агоака.
— Не один, а с Митропаном. Охотники большого дома в тайге.
— Ты разве не с ними был?
— И с ними жил, и отдельно — всюду жил.
Пиапон начал готовить упряжку для Митрофана. Женщины бросились помогать ему. Они же помогли разгрузить нарту, перетащить мясо в амбар. Митрофан выпил чаю, отдохнул.
— Пиапон, я тебя понимаю, потерять ребенка — это...
— Не говори, Митропан, умерла дочка... веселая была, умная. Что сделаешь.
— Да, не оживишь.
— Езжай, Митропан, темно станет — дорогу до разглядишь. Как доедешь, снимай с собак ошейники и отпускай, они сами прибегут домой.
— Ладно, отпущу.
Митрофан снял с нарты палку-правило, сел поудобнее.
— Митропан, у тебя есть снасти на калуг и осетров, ты будешь ими пользоваться?
— Не знаю, я, наверно, сразу почту примусь гонять.
— Рыболовные снасти в большом доме, а без отца их нельзя брать. Может, ты на время дашь снасть?
— Бери, чего зря будет лежать.
— Я приеду за ней. Калуг хочу ловить, хрящи буду торговцам продавать.
— Это тоже заработок. До свидания, Пиапон.
Митрофан прикрикнул на собак, те сорвались с места, понеслись вскачь. Пиапон смотрел вслед нарте и ловил себя на мысли, что тоже не против был бы, не заглядывая домой, уехать куда-нибудь подальше от родного стойбища.
В землянке собрались женщины, дети, они пришли пособолезновать, утешить Пиапона и разузнать что-либо о мужьях, детях. Пиапон молча поцеловал младшую дочурку Миру, разделся и закурил.
— Угощай гостей, — сказал он жене.
Женщины никогда не расспрашивают охотника, удачна была охота или нет: они не имеют такого права и поэтому ловят каждое слово таежника. Многие из них по лицам таежников, по их поведению довольно точно научились определять, сопутствовала их мужьям удача или обходила стороной.
Женщины молча курили, усевшись возле очага. Раннее возвращение Пиапона, смерть его дочери и еще нескольких детей в Нярги, повальная болезнь желудка у взрослых и у детей, плохой подледный лов рыбы — все это перемешалось в кучу и встревожило няргинских женщин: обыкновенно так начиналась страшная болезнь, уносившая половину стойбища, или весенний голод, тоже уносивший в могилу немало малолетних детей и старцев. До весны, до вскрытия рек и озер оставалось два месяца, что их ждет за эти два месяца? У каждой семьи еще есть запас юколы, но ее можно есть только тогда, когда от голода стягивает живот, потому что юкола не довялилась, ее замочило осенними дождями, и она вся покрылась налетом плесени. Если не будет ловиться рыба, многих детей ждет участь дочери Пиапона. У женщин маячил перед глазами высокий лабаз на краю села, где лежали детские трупики.
Пиапон догадывался, что и его дочь не погребена: одним женщинам не под силу выкопать могилу в мерзлой земле.
Дярикта угощала соседок вареным мясом, а когда гости стали уходить, она каждой дала по кусочку свежего мяса, чтобы те дома сварили суп.
— Всю зиму не пробовали свежего мяса, мало ели свежей рыбы, — пожаловалась Дярикта мужу, когда улеглись после ухода гостей. — Рыба совсем не ловится, пробовали ловить щук махалками, ангалкой рыбачили на Амуре, даже косатки и те не попадаются. Без свежинки трудно, животы у всех болят... дети умирают...
Ангалка — мешкообразная сеть-ловушка.
На следующее утро к Пиапону пришли матери, у которых умерли дети, попросили выкопать могилки. Пиапон пошел на кладбище и разжег пять огромных костров. Женщины и дети привозили на нартах дрова и поддерживали огонь. Пять костров горели в пяти разных мостах, рядом с могилами родственников.
В Нярги нашлась одна лопата, один лом, и Пиапон в первый же день выдолбил в мерзлой, не оттаявшей земле могилку своей дочери. Пиапон понял, что ему придется провозиться с этими могилами не один и не два дня: он непривычен был к земляной работе, не умел долбить мерзлоту. Вначале ему казалось, что мерзлая земля так же легко будет поддаваться, как лед: ударишь покрепче — и отвалится глыба, ударишь второй раз — еще отвалишь глыбу; но земля с трудом поддавалась усилиям Пиапона. Костры слишком медленно отогревали мерзлоту. Пиапон с утра уходил на кладбище и возвращался вечером смертельно усталый и обессиленный. Даже на охоте так уставать редко приходилось.
Только на четвертый день Пиапон выкопал пятую могилу.
Из стойбища прибежал мальчишка и сообщил Пиапону, что приехал какой-то русский.
Гнедая лошадка, прикрытая тулупом, с кошевкой стояла возле сушильни большого дома. Лошадка с аппетитом, хрустко, точно грызла сахар, жевала сено и настороженными глазами следила за окружившими ее собаками. Собаки сидели в сторонке и, наклонив головы, прислушивались к хрусту сена на зубах лошади.
Мальчик привел Пиапона в большой дом. Русский оказался ниже Пиапона ростом, с рыжими, как у Ваньки Зайцева, волосами, с бородкой клинышком и усами, как распластавшиеся крылья коршуна. На нем были черная куртка и брюки, заправленные в серые валенки.
«За детьми приехал», — подумал Пиапон, и ему стало еще тоскливее, чем на кладбище.
— Бачигоапу! — поздоровался приезжий по-нанайски и протянул руку.
Пиапон настороженно пожал протянутую руку.
— Я не чиновник, доктор я, больных лечу, — мягко продолжал приезжий по-русски. — Меня зовут Василий Ерофеич Храпай, а ваши зовут Харапай, это даже мне больше нравится. Живу я в Тамбовке, оттуда езжу по вашим стойбищам. Весной запахло, тяжелое время, люди болеют. Да что это мы стоим?
Пиапон присел на край нар, закурил поданную трубку. Он и раньше слышал о русском шамане, который вонючими, горькими, как желчь, лекарствами вылечивал больных, и потому не очень удивился встрече с доктором. Доктор вежливо отказался от трубки, сказал, что не научился еще курить и, видимо, никогда не научится.
— Курить надо, когда на душе тяжело — помогает, — заметил Пиапон.
— Не знаю, не приходилось мне горевать, наверно, оттого, что курить не хочу научиться, — улыбнулся Храпай.
Пиапон недоверчиво-насмешливо оглядел доктора и подумал: «Врет. За детьми приехал. Хитрит». Ему больше не хотелось продолжать разговор: он недолюбливал людей — бахвалов, лжецов; чем проще человек, тем он искренней, понятней.
Василий Ерофеевич сразу заметил, какое впечатление произвела его шутка на Пиапона. «Не любитель шуток, — отметил он. — И верно — плоская шутка вышла. О вреде курева сразу не начнешь разговор, они этому не поверят. Доверие нужно».
Храпай жил на Амуре второй год, жил в русском селе Тамбовка, в первое время лечил в основном только русских поселян. Нанай к нему относились с недоверием. Как-то он приезжал в соседнее нанайское стойбище Бельго, обошел несколько дымных грязных фанз, видел больных, но те отказались от его помощи. Позже услышал, что в тех фанзах, где он побывал, нанай жгли багульник, выкуривали «русский шаманский» дух. Храпай знал: если бы не было столь сильного влияния шаманов, то нанай не против были бы обращаться к нему за помощью, но шаманы с их сэвэнами, всякого рода грозными бурханами довлели над ними. С первых же попыток сближения с нанай Храпай понял — ему не скоро добиться расположения этих непонятных, но славных людей.
— Ты, дохтор, силком кого из них излечи — тогда все к тебе потянутся, — советовали некоторые тамбовские мужики.
Но Василий Ерофеевич знал, что методом первых попов-миссионеров ему ничего не добиться. Сожжет он травяных и деревянных бурханов, припугнет одного, другого шамана, и все. Бурханы вновь появятся, как только он уедет из стойбища, благо травы и деревьев сколько угодно вокруг.
Василий Ерофеевич был человеком недюжинного ума, в студенческие годы он, кроме медицины, увлекался географической наукой и далекой от медицины астрономией. И здесь, на Амуре, после нескольких встреч с нанай вдруг загорелся этнографией и начал изучать язык, быт, хозяйство жителей стойбищ Бельго, Нижние Халбы, Бичи, Хурбы, Мэлки, Падали, Эконь. За год с небольшим он записал несколько десятков легенд, сказок, песен, знал некоторые обряды свадьбы, захоронений. Со многими рыбаками подружился, и те охотно рассказывали ему легенды, а когда он расспрашивал о нанайской медицине, они улыбались:
— Ты хитрый, Харапай, наше лекарство узнаешь, потом нас же этими лекарствами будешь лечить.
Василий Ерофеевич часто ездил с друзьями на охоту, на рыбную ловлю, надолго исчезал из Тамбовки, и некоторые поселяне, искавшие с ним сближения, обижались.
— Ты чего это, доктор, все с гольдами да с гольдами? Охотиться и мы тебя научим, — говорили они.
За год Храпай довольно хорошо стал разбираться в нанайском языке, хотя и не мог правильно произнести многие слова, но речь собеседника понимал. С этим запасом знаний языка и этнографии Василий Ерофеевич решил проехаться по нанайским стойбищам Тамбовской и Троицкой волостей. Проехал он Эконь, Диппы, Падали, Хунгари, Мэнгэн и прибыл в Нярги.
— Да, я так и не знаю, как вас зовут, — сказал Василий Ерофеевич.
— Пиапон.
— Здесь живете?
— Жил раньше, теперь в землянке.
— А здесь кто живет?
— Отец мой.
— Вы от отца ушли? Это был большой дом?
— Нет большого дома.
«Это интересно, — подумал Василий Ерофеевич. — Почти во всех стойбищах распадаются большие дома. Что же лежит в основе этого распада?»
Пиапон спросил, понимает ли Храпай нанайский язык, и перешел на родную речь:
— Теперь я сам себе хозяин, что хочу, то и делаю. Трудно, говоришь, жить? Конечно, нелегко, но у меня есть ружье, куплю льняную сетку — с голода не умрем.
— Но одному невозможно рыбачить неводом.
— Зачем одному? Людей много, теперь одним неводом могут рыбачить люди разных родов.
«Расшатывание родовых отношений, новые орудия охоты и рыбной ловли», — заметил про себя молодой этнограф.
Пиапон согрелся, выкуренная трубка крепкого табака слегка вскружила голову, успокоила нервы; и собеседник оказался знающим жизнь нанай человеком.
Агоака подала горьковатый суп из юколы и лапши. Храпай съел суп, похвалил хозяйку дома и вдруг спросил:
— В стойбище много больных?
— Есть, — ответил Пиапон.
— Везде, Пиапон, люди болеют, много людей болеет. Юкола плохая, заплесневелая, от нее болезнь. В Диппе, в Хунгари, в Падали дети, женщины умирали на моих глазах, и я ничем не мог им помочь: им нужна была свежая, хорошая пища. Сердце у меня изболелось.
Пиапон пристально посмотрел в лицо доктора.
— А ты говорил, у тебя горя не бывает.
— Плохо я пошутил, хотел самого себя обмануть да с тобой хотел разговориться о чем-нибудь другом.
Пиапон прихлебнул чай.
— О другом разве можно сейчас говорить? Кругом люди болеют, помогать им надо.
— Да, ты прав, Пиапон, помогать надо, — задумчиво проговорил Василий Ерофеевич.
Допили чай, Пиапон стал прощаться.
— Отдыхай, Харапай, в дороге люди сильно устают.
«Отдыхать? Нет, Пиапон, мне нельзя отдыхать, — мысленно ответил Василий Ерофеевич. — Надо людям помочь. Надо спасать».
Василий Ерофеевич с первых же знакомств с нанай понял, что правы те передовые чиновники и ученые-этнографы, которые на весь мир заявили о вымирании народов Амура. Как врач, он сразу отметил большую смертность среди детей, раннюю старость женщин, видел малюток, оставшихся без материнского молока, сосавших юколу; видел семилетних-девятилетних детей, прильнувших к тощим грудям исхудавших матерей. Дети умирали из-за недостатка калорийной пищи, из-за эпидемий; как при таком положении можно говорить о росте населения?
Василий Ерофеевич встречался со многими чиновниками, приезжавшими в Тамбовку, разговаривал с ними о помощи нанай.
«Вы сюда посланы, чтобы помогать им, вот и помогайте», — отвечали одни.
«Помогать? А чем?» — спрашивали другие, пожимая плечами.
Храпай сам много думал, чем он может помочь вымиравшему народу. Он понимал: ему, единственному врачу на волость, при протяженности более четырехсот верст только по Амуру, нечего даже и думать об охвате медицинской помощью всех жителей волости. Будь даже три врача и три больницы с обслуживающим персоналом, и тогда невозможно было бы предотвратить все заболевания, особенно эпидемии.
«Такой огромный край — и один Храпай врач! — говорил он друзьям с душевной болью. — Должны здесь появиться другие врачи, это необходимо».
Но когда придут эти новые врачи и фельдшера? На этот вопрос он не находил ответа. Его самого, единственного врача волости, очень скверно снабжали медикаментами, где уж тут было надеяться, что сюда пошлют новых врачей. Василия Ерофеевича глубоко возмущало безучастие амурского губернатора к жизни нанай. Он несколько раз обращался с личным письмом к губернатору, в губернскую канцелярию и всегда получал один и тот же ответ, что губернатор знает положение туземцев и делает все, чтобы им жилось сытно.
«Что же они дали, чтобы гольды жили сытно?» — думал Василий Ерофеевич, и не мог ничего вспомнить, что могло бы пролить свет на благотворительную деятельность губернатора.
— Нет, отдыхать некогда, преступно, — сказал вслух Василий Ерофеевич, оделся и, взяв чемоданчик с медикаментами, вышел на улицу. До наступления темноты он побывал в трех фанзах, и во всех фанзах лежали тяжело больные женщины и дети. Храпай с трудом объяснил им, что он доктор, что он лечит людей. Дети, хоть и боялись, все же разрешали доктору прослушать себя, но женщины наотрез отказывались снять домашние халаты. Возвращаясь в большой дом, он встретился с Пиапоном возле его амбара; Пиапон рубил топориком кабаний бок и раздавал мясо окружавшим его женщинам.
— Харапай, чего ты не отдыхаешь? — спросил Пиапон.
— Со стойбищем знакомился, — улыбнулся Василий Ерофеевич.
— Заходи ко мне, мясом угощу.
— От свежего мяса не откажусь.
— Люди свежего мяса не видели всю зиму — вот и раздаю, — говорил Пиапон, когда они зашли в теплую землянку.
— А много у самого-то мяса?
— Хватит. Ружье есть — добуду. Детей, женщин надо спасать.
Пиапон взобрался на нары, пригласил Храпая сесть рядом.
— Ты, наверно, любишь нанай? — спросил он.
— Мужчинам нехорошо о любви говорить.
— Э-э, а к нам приезжал один начальник с попом, он все повторял «я люблю вас, я вас люблю». Хороший человек, из Тамбовки. В погонах был, с шашкой.
— Полицейский, урядник? С усиками, небольшого роста?
— Да, ниже меня.
— Это урядник Шилов. Плохой человек, обманщик.
— Как так, Харапай, начальник он, как может быть обманщиком?
— Он у вас что-нибудь просил?
— Нет, не просил, но мы ему соболя подарили.
«Эх, люди, до чего же у вас мягкая душа! — подумал Василий Ерофеевич. — Вас любой дурак вокруг пальца обведет».
— Он человек обходительный, разговорчивый, за нанай горой стоит. Любого стеснительного человека заставит разговориться. Ты тоже умеешь так. Скажи, ты нанай лечишь?
— Я всех лечу.
— А я бы не стал у тебя лечиться, пока не познакомился бы.
— Ко мне идут только знакомые, другие боятся, — сознался Василий Ерофеевич и вспомнил первого пациента-нанай. После неудачных посещений стойбищ Храпай оставил в покое рыбаков. Наступила зима, охотники-тамбовцы промышляли белок вблизи деревни. Однажды вернулся сосед Храпая и сообщил, что встретил в тайге гольда, порванного медведем, и что этому гольду по закону тайги не разрешается возвращаться домой, пока не заживут раны. На следующий день Василий Ерофеевич пришел к раненому охотнику, и после долгих уговоров тот разрешил ему сделать несложную операцию. Рана охотника удивила доктора: тело, руки, ноги были без царапин, только рот был разодран да на щеках остались следы когтей. Василий Ерофеевич снял всю пихтовую смолу, которой была облеплена рана.
«Лояльный медведь», — удивился он, зашивая рану.
В шалаше вместе с раненым жили еще двое охотников. На расспросы доктора один из них сердито ответил: «Поменьше надо языком болтать!» Другой со смехом рассказывал: «Сам он дурак. Вернулся вечером и говорит: нашел берлогу. Пригласил нас. А сам сел перед очагом и начал болтать: на один суп медвежьего мяса отнесет теще, два ребра — дяде, жирный кусок — брату. Так он делил мясо медведя, который лежал в берлоге и слушал его болтовню. Когда пришли к берлоге, он забыл, где она находилась. Мы сели покурить, а он отошел от нас на двадцать шагов, и тут медведь выскочил из берлоги, разорвал ему рот. Хорошо, язык не вырвал... теперь с зашитым ртом будешь ходить... Ха-ха-ха. Первого человека вижу с зашитым ртом!»
Охотник повалился на постель и долго еще смеялся. Он рассмешил и Храпая, когда, подавая раненому в рот кусок белой застывшей смолы, говорил: «На, попробуй медвежье сало!» Рана охотника зажила за неделю, Василий Ерофеевич еще раз возвращался в тайгу, чтобы снять швы.
С этого случая и пошел по стойбищам слух об удивительном русском докторе, который излечивает все болезни, а раны зашивает, как женщины зашивают прорехи в халате.
— В первый раз ты мне показался пустой человек, — продолжал Пиапон. — Теперь вижу — другой. За нас болеешь — это заметно. Никого из русских начальников я не встречал, который бы так за нас болел, желал бы нам добра, счастья, только наши друзья из Малмыжа нам помогают. Это понятно — они простые люди, как и мы.
«Умница ты, Пиапон», — подумал Василий Ерофеевич.
После ужина Пиапон оставлял доктора ночевать у себя, но Василий Ерофеевич ушел в большой дом, чтобы не стеснять семью гостеприимного хозяина землянки.
На следующее утро Пиапон рано ушел на кладбище копать могилу. Он снял верхний, оттаявший под костром слой земли и начал долбить ломом мерзлоту, когда пришла заплаканная женщина.
— Отец Миры, сын при смерти лежит... Вчера приходил русский, чем-то поил, сыну стало легче, а утром опять стал умирать... В нашем доме все этим доктором пахло, я побежала к нему... он прибежал и большой иглой уколол умирающего сына...
Пиапон вытер пот с лица и молча ждал, что дальше расскажет женщина.
— Сыну легче стало... уснул.
— Зачем тогда пришла сюда? Иди к сыну да не бойся русского, чуть что — зови его.
Женщина ушла. «Вот так Харапай, — восхитился Пиапон. — Из рук смерти людей вырывает. Неужели спасет мальчика?»
К полудню на кладбище вдруг явился сам Василий Ерофеевич.
— Зачем вы утаили, что могилы копаете? — спросил он. — Я случайно узнал, что в стойбище умерло столько детей и что вы тоже потеряли дочь.
— Это мое горе, зачем рассказывать.
Василий Ерофеевич сел на обрубок дерева у костра и, задумавшись, начал палочкой ворошить оранжевые угли.
— Вот вы вчера говорили, что я болею за вас, за ваш парод... но одним душевным страданием ничего не сделаешь. Один я, совсем один на всю волость, как я могу помочь больным, которые лежат от меня за несколько сот верст? Сердце разрывается, когда я думаю о том, что кто-то умирает в Нярги, или в Болони, или в Хулусэне. А помочь не могу... Был бы в Нярги, когда болела твоя дочь, может, спас бы ее...
Пиапон тоже присел к костру и закурил.
— Ты, Харапай, хороший человек, — сказал он. — Ты со всеми нами горюешь — вижу это. Сердце твое болит за нас. Спасай всех больных детей, отцы и матери тебе будут молиться.
— Не надо молиться, я постараюсь спасти людей, их надо свежим мясом, рыбой кормить.
Василий Ерофеевич помог Пиапону выкопать могилу, присутствовал на похоронах и, вернувшись домой, долго сидел, склонившись над тетрадью в черном переплете.
К вечеру в Нярги прикатил на своих лошадях Митрофан.
— Чего ты не появляешься? — набросился он на Пиапона. — Снасть приготовил, можно сразу выставлять. Почему так долго не приезжал?
— Могилы рыл, Митропан, дети умирают от желудочных болезней.
— Много умерло? — снизив голос, спросил Митрофан.
— Много, друг.
Митрофан замолчал, он не знал, как продолжать разговор.
— Свежей рыбы нет. Как твои дети, здоровы?
— Здоровы.
— Вам легче, вы, кроме рыбы и мяса, огородные корни и травы едите.
— Тебе бы почему не есть? Картошка же тебе понравилась.
— Не обо мне разговор, дети болеют. Станут ли они есть?
— Картошку станут есть, она вкусная.
— Где ее теперь достанешь?
— Я привезу тебе мешок, понемногу будешь есть — до весны дотянешь.
— Почему только мне? Во всем стойбище дети болеют.
— Где всем достать картошку?
— Зачем нам твоя картошка? Рыбу нам надо. Снасть я выставлю, на ангалках буду рыбачить, только все это пустое дело — может рыба попасть, может не попасть, как уж повезет. Были бы мужчины, можно было б неводом порыбачить, им уж верно поймаешь.
Митрофан призадумался. Самому ему, видно, не удастся порыбачить, он подрядился возить груз из Малмыжа в Вознесенское и в Чолачи — Иннокентьевну, но в Малмыже найдутся мужчины, которые охотно помогут Пиапону.
— Пиапон, наши малмыжские не рыбачили зимой, не знают даже, как под лед невод закинуть. Но они согласятся тебе помочь.
— Согласятся или не согласятся — нечем ловить рыбу, нет невода у меня.
— А где ваш невод?
— В амбаре большого дома.
— Так возьми.
— Как же я возьму из чужого амбара? Ты Митропан, ничего не понимаешь. Если уходит дочь замуж, то она ужо чужая и не имеет права больше заходить в амбар своего отца. Я вот ушел из большого дома и тоже не имею права заходить и брать из амбара большого дома невод. Понял?
— Может, у кого у другого есть невод?
— Есть, да все хозяева на охоте.
— Пусть жены дадут.
— Женам воспрещается в те амбары заходить, где лежит охотничье и рыбацкое снаряжение.
— Дурацкие законы! — вдруг рассердился Митрофан. — Люди умирают без свежей рыбы, а невода будут лежать без дела. Ладно, я приеду завтра или послезавтра. Жди меня. Если сам не достанешь невод, то я залезу в амбар твоего отца и возьму невод.
— В чужой амбар только вор может залезть без разрешения хозяина.
— Пусть твой отец назовет меня кем хочет!
«Митропан если скажет — сделает», — подумал Пиапон.
Два дня в ожидании Митрофана Пиапон рыбачил с женщинами ангалкой, поймал немного сомов, несколько небольших сазанов и полную нарту косаток. Женщины стойбища варили уху из свежих косаток и кормили больных.
Храпай все еще не покидал стойбища, он понимал, что от спасения умиравшего мальчика многое зависит в его дальнейшей судьбе, и потому все свободное время уделял мальчику. Больной уже сам садился, разговаривал, ел без помощи матери, но еще вызывал тревогу доктора: слишком он отощал за зиму.
Вечерами Пиапон и Василий Ерофеевич допоздна просиживали за маленьким столиком, рассказывали друг другу о своей жизни. Василий Ерофеевич с разрешения Пиапона записывал в свою заветную тетрадку рассказы нового друга. Пиапон в свою очередь расспрашивал о больших городах, об устройстве «железных лодок» и однажды, услышав о шарообразности Земли, что Земля вертится вокруг оси и кружится вокруг Солнца, несказанно удивился и опять было подумал, что Храпай обманщик, но, взглянув в чистые, ясные глаза друга, должен был безоговорочно поверить, что Земля действительно кругла, что она вертится вокруг оси и крутится вокруг Солнца, хотя не мог представить, как так может быть.
После этого разговора в тетради молодого этнографа появились нанайские названия созвездий, звезд и «Колесо неба» — Полярная звезда.
Митрофан почему-то задерживался и приехал только на четвертый день. Он привез два мешка картошки и при всех заявил, что без разрешения Баосы берет невод из амбара большого дома. Пиапон заблаговременно ушел на тонь помогать малмыжцам долбить проруби, готовить тонь. А Митрофану вытаскивать невод из амбара помогал Василий Ерофеевич Храпай.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Во второй половине марта тайга заметно оживает, будто просыпается от длительного сна. Будят тайгу синички, крохотные синички, они перелетают стайками с дерева на дерево и пищат по-весеннему весело и громко, словно детишки, играющие в пятнашки. Вороны, хриплый голос которых редко разносится по тайге, теперь закаркали на все лады. После зимнего безмолвия и хриплое карканье ворон охотникам кажется весенней песней.
— Всю зиму только наш голос слушали эти деревья, сопки, ключи, теперь вернулись настоящие хозяева, а нам пора уходить домой, к людям, — сказал Токто однажды вечером. — Завтра начнем снимать самострелы, за два дня все снимем.
— Я за день сниму! — воскликнул Пота. — Чего там...
Пота не мог не спешить, всю зиму он отсчитывал день за днем, каждую ночь видел во сне Идари, в звоне ключевой воды подо льдом он слышал голос и смех жены, плач ребенка. Пота знал — сын его появится под солнцем апреля.
«Неужели мой брат не думает о своем ребенке?» — думал Пота, глядя на Токто: за всю зиму Токто ни разу сам не начинал разговора о семье, о ребенке, которого ждал. И Пота сделал вывод, что старший брат в тайге живет только с мыслями об охоте и ничто другое не беспокоит его.
Чужая душа — дно Амура, что там есть, что делается — не увидишь, не узнаешь. Откуда было знать Поте, что думал, что переживал Токто. Он даже не видел и не слышал его утренних горячих молитв солнцу и эндури, он не знал, как рвался домой Токто, как, сдерживая себя, он почти ежедневно бегал по свежим следам соболя, кабарги, чтобы забыться, как забывается во сне подвыпивший человек.
— Не спеши, береги силы, трудный путь нас ждет, — предупредил Токто.
За два дня самострелы были сняты, на третий день Токто с Потой протаптывали в глубоком мокром снегу дорогу. Будь у них нарты налегке, без тяжелого мяса, они воспользовались бы утренним настом и выбрались из тайги без всякой дороги. Но в середине марта в густой тайге наст не выдерживал тяжести нарт, разламывался, как тонкий осенний ледок под ногами бесстрашных мальчишек.
В первый день охотники протоптали дорогу до Гремучего родника, где кончался охотничий участок Токто. Тут обрывались следы лыж, и дальше голубел девственный весенний снег. Токто долго смотрел на голубевший снег, на деревья, кусты и усмехнулся: лыжные следы вокруг зимника ему представились сетью паука, а зимник — его гнездо; паук выходит из гнезда, обходит сеть, собирает добычу и возвращается обратно.
«Тьфу, о чем я думаю!» Токто плюнул, повернулся назад и стал расширять проложенную дорогу. Но возникшие в конце дороги мысли навязчиво одолевали его.
— Пота, как ты думаешь, много людей на земле кроме нас? — спросил он, когда вернулись в зимник.
— Кто его знает? Русские на Амуре говорят, что их на земле больше, чем комаров в тайге.
— Русских много. Как ты думаешь, кроме русских, китайцев, удэге, орочей, тунгусов, якутов, маньжуров, гиляков, солонов, негидальцев и нас, еще есть на земле другие народы?
— И так много, куда еще?
— А все же есть или нет?
— Не знаю.
— Пота, как ты думаешь, другие народы знают, что мы живем на реке Харпи в Полокане?
— Амурские нанай знают.
— Не о том спрашиваю, другие народы знают?
— Наверно, знают, приезжают же маньжурские торговцы.
«Нет, Пота, никто об этом не знает, кроме наших родственников, наши следы кружатся только вокруг Полокана да иногда доходят до Амура. Нет, не знают! Мы о них ничего не знаем, и они о нас ничего не знают», — подумал Токто.
К полудню следующего дня охотники были на конце проложенной дороги и, подкрепившись мясом и чаем, начали вновь протаптывать лыжами дорогу. Так они выбирались из тайги три дня и только на четвертый день вышли к Харпи. На реке лежал утрамбованный всеми ветрами снег, наст был крепче, чем в тайге, и охотники пошли легко и быстро. Пота шел впереди Токто, он шагал быстро, как вожак упряжки, учуявший дымок человеческого жилья.
«Соскучился. Молод, не может скрывать чувства, — думал Токто. — Да и зачем ему их скрывать? Его не преследуют злые духи, он молод и уверен в себе, на жизнь смотрит другими глазами, чем я. Он счастлив... Кто у меня, интересно, родился?»
Хладнокровный, сдержанный Токто все же не смог скрыть своего волнения, когда на реке появились маленькие фигурки встречавших мальчишек.
— Встречают, Пота, вон встречают! — воскликнул он, хотя Пота сам видел бегущих к ним навстречу детей.
— Наши скоро так же будут встречать, — улыбнулся Пота, не догадываясь, что выразил вслух затаенную мысль Токто.
Мальчишки бежали наперегонки, но впереди всех мчался хитрец, который запряг двух собак, а сам на лыжах держался за них. Собаки мигом домчали своего маленького хозяина к охотникам. Это был один из внуков Пэсу Киле.
— Ох и хитер ты, малыш! Кто же это тебе подсказал так ездить? — смеялся Токто, прижимая к груди мальчишку.
— Никто, я сам, — бойко ответил мальчик. — Я думал, отец или дед возвращаются.
— Молодец, малыш! Умница ты, — похвалил Токто.
— Ой, дака, у тебя дома кто-то появился...
— Кто? — Токто опять прижал к груди мальчика.
— Девочка.
Токто поднял мальчишку, поцеловал и посадил верхом на груженую нарту.
— Тебе самый красивый лук подарю, — сказал он, — пять самых красивых стрел получишь.
Токто припряг к своей нарте еще одну собаку, другую отдал Поте. Собаки сами поволокли нарты без помощи охотников.
— Дака, когда родилась у тебя девочка, в стойбище поднялся крик, будто утащила собака твою девочку. Я был недалеко, вижу, верно, собаки дерутся между собой и отнимают друг у друга что-то. Я побежал к ним, но собаки не догнал. Дака, ты не беспокойся, твоя девочка дома и никакие собаки ее не утащили...
Токто шагал рядом с нартой, слушал рассказ мальчика и улыбался.
«Дочка! Дочка родилась! Какая она, на кого похожа, — на меня или на Кэкэча?»
— Еще одну стрелу подарю за то, что ты гонялся за собаками, — сказал Токто.
Никогда Токто не возвращался из тайги без подарков для мальчишек, и его возвращения с особым нетерпением ждали дети. Некоторые мальчики ждали его больше, чем своих отцов, которые не умели делать красивых луков и стрел, крепких лыж и санок.
Возле фанз и землянок охотников встречали женщины и успевшие возвратиться таежники. Вглядываясь из-под ладони, они пытались по нартам, собакам, по походке человека узнать охотника.
Оба еще издали узнала мужа и Поту, позвала Идари. Идари обогнала Обу, подбежала к мужу и попала в его крепкие объятия.
— Идари! Идари, любимая! — шептал Пота. Идари уткнулась в грудь мужа и всхлипывала от радости.
Токто тоже обнял жену, прижал к себе.
— Смотрите, смотрите, Токто обнимает Обу! Что с ним? — заговорили следившие за ними женщины.
— Как дочка? Как Кэкэчэ? — спросил Токто.
— Здоровы, обе здоровы, — смущенная необычной встречей, отвечала Оба.
Из дому выбежала Кэкэчэ, вся в лохмотьях, в старых олочах и, застыдившись, покраснела, поздоровалась издали с мужем и вошла в дом.
Токто с Потой не спеша перетащили мясо в один амбар, все снаряжение, таежную охотничью одежду — в другой, вытряхнули из курток пыль, а с ней и все недоброе, что могло к ним прилипнуть в тайге и по дороге. Вошли в землянку и бросились на колени перед центральным столбом.
— Гуси-Тора, спасибо тебе, что позволил нам благополучно сходить в тайгу и невредимыми и здоровыми вернуться. Спасибо тебе, Гуси-Тора, могучим плечом поддерживающий нашу крышу, наше жилье, что ты сохранил здоровыми и невредимыми нашего нового жильца, не подпустил близко к дому злых духов. Спасибо тебе, Гуси-Тора, за удачу на охоте.
Потом охотники молились очагу, также благодарили за благополучие в доме, за удачу на охоте. После молитвы Оба взяла у Кэкэчэ завернутого в тряпье ребенка и поднесла к Токто. Токто бережно взял малышку, долго всматривался в крохотное красное личико с нежным мягким рыжеватым пушком, в пухлые губки, на пупырик в середине верхней губы, который нанай считают остатком от птичьего клюва и называют «клювиком».
«Птенчик ты, настоящий птенчик! — мысленно сказал Токто. — Хоть и отпал у тебя клювик, но сохранился пушок. Ты уже не птичка, ты человек, слышишь, ты человек и не должна летать!»
Девочка зачмокала губами, задвигала рыжеватыми бровями, сморщилась и открыла глаза. Черные, как спелые черемушинки, глаза равнодушно скользнули по лицу Токто и опять закрылись. Токто нагнулся и поцеловал дочурку.
— Она всю ночь не спала, ревела, мы думали, животик у нее заболел, — сказала Кэкэчэ со своей нары. — А она отца встречала.
Токто поцеловал опять дочурку.
— Мы все-все сделали, старушки помогали, спасибо им, — сказала Оба. Токто без объяснений понял, что сделали старушки.
— Какое имя дать, думали? — спросил он.
— Сами не посмели думать, дедов и бабушек нет, кто кроме тебя, может дать ей имя.
Пота не отходил от жены и что-то шептал ей на ухо, Идари тоже шепотом отвечала ему. Они улыбались, глядя друг на друга, и не могли отвести глаз.
В фанзе собрался народ, пришли охотники, женщины, дети. Заглянули старый Чонгиаки Ходжер, сын его Гокчао, Дарако Бельды, младшие дети Пэсу Киле — Годо, Молкочо.
— Эти без объятий не обойдутся, — сказал Чонгиаки, недобро поглядывая на Поту с Идари.
— Молодые, влюблены — все такими были, — заметил Дарако Бельды. — Всю зиму не виделись, соскучились друг о друге.
Чонгиаки недовольно засопел трубкой и не ответил молодому охотнику. Разговор перешел на излюбленную тему — таежники стали рассказывать о своих приключениях. Когда сварилось мясо в большом котле, женщины подали на нары в берестяном магаха большие, опутанные паром куски мяса. Поздно вечером гости стали расходиться, успев договориться о завтрашней рыбной ловле. После мясной пищи и юколы всем хотелось попробовать ухи из свежих карасей, талы.
Мужчины разошлись, ушли и дети с подарками — разукрашенными луками и стрелами. Возле очага осталось несколько старух и среди них Кисоакта.
— Муж Кэкэчэ, надо имя дать человеку, — сказала она.
— Счастливое имя надо дать, — ответил Токто.
— Не слушай ты весенних ветров, не слушай шороха тающего снега — тебе злой дух может прошептать несчастливое имя. Надо дать такое имя, чтобы никто не подумал, что это человеческое имя, тогда злые духи ошибутся...
Токто вспоминал имена русских женщин и не мог вспомнить. Однажды он слышал, как мужики в Малмыже кричали: «Булка!» Токто не знал, что такое «булка», но если это слово выкрикивали мужчины, то оно достойно быть именем женщины.
— Назовем дочь Булка, — сказал он.
Старушки замерли, переглянулись, потом зашептали, закивали головой. Токто так и не понял — согласны они или не согласны.
— Пусть будет Булка, — сказала Кисоакта. — С этим именем она спокойно проживет жизнь, злые духи не будут знать, что это такое.
Обряды теперь на этом закончились, и все следы рождения девочки, как думали старушки, были искусно заметены.
— Спасибо тебе, мать Годо, спасибо, — поблагодарил Токто Кисоакту. — Не забудем твою помощь, ты теперь как родственница нам.
— Мы сделали все, что смогли сделать, — ответила Кисоакта. — Теперь все зависит от эндури.
Гости разошлись. Токто попросил, чтобы Оба принесла к нему дочку: ему самому нельзя подходить к грязной Кэкэчэ. Когда Оба принесла ему малышку, он уложил ее возле себя и сам прилег. Девочка смешно сморщила пуговичный носик и вдруг заревела звонким голоском. Токто передал ее Обе.
— Гости, видно, прибудут, — сказала Оба.
— Торговцы приедут, кто, кроме них, может быть, — заметил Токто.
На следующее утро Полокан проснулся задолго до рассвета. В окнах домов запрыгали бледные язычки жирника и отсветы пламени в очагах, замелькали тени собиравшихся на рыбалку мужчин. На улице завыли собаки, выли заунывно и мучительно долго, пока кто-то из рыбаков не начал избивать свою собаку. Вой перешел в неистовый лай. Токто с Потой запрягли в упряжку по пять собак, им помогали Оба и Идари, они удерживали распрыгавшихся псов, чтобы те не запутались в постромках.
Одна нарта за другой отъезжали из стойбища, собаки бежали что было силы, пытаясь обогнать мчавшуюся впереди упряжку. Рыбаки подбадривали псов, покрикивали задорно: «Тах! Тах! Смотрите, ворона, ворона! Давайте, жмите! Тах! Тах!» Почти все упряжки одновременно примчались к месту рыбалки.
— Э-э, сколько нас собралось! С такой силой мы сегодня в трех тонях можем закинуть невод, — сказал Чонгиаки Ходжер.
— Верно, — поддержал старика Токто. — Давайте сделаем так: сейчас все вместе продолбим проруби, заведем под лед невод и разделимся на две группы, одна останется вытаскивать невод, другая пойдет на вторую тоню готовить проруби.
Все рыбаки согласились с разумным предложением Токто, и как только завели невод под лед, молодежь села на нарты и выехала на другую тоню. Первый заброс оказался не очень удачным — вытащили всего около полутора сотен крупных желтых карасей.
— Как раз на уху и на силон вытащили, — засмеялся Чонгиаки.
Вторым притонением рыбаки вытащили сразу на три-четыре нарты карасей.
Третье притонение решили не делать, хотя времени было достаточно — солнце чуть склонилось к западу. Разожгли костер, начали варить уху, жарить на вертелах карасей, а в ожидании ухи ели талу.
— Дака, когда ты собираешься ехать в Болонь, к торговцу? — спросил Токто у Чонгиаки.
— Не поеду я по снегу, вскроется река — на лодке съезжу, — ответил старик.
Силон — поджаренная на костре рыба.
— Надо продуктов немного взять, да и долг вернуть, по люблю, когда на шее весит.
— Из-за долга не стану ездить зимой, нечего спешить. От долга все равно никогда не отвяжешься. Знаю это.
— А я все же съезжу, расплачусь, и на душе легче станет.
— Чего-то нынче торговцы запаздывают, раньше в это время две-три упряжки уже гостили у нас.
Торговцы не заставили себя ждать. В этот день к Полокану подъехали пять тяжело нагруженных крупой, мукой, сахаром, штуками материи и водкой нарт.
Токто не встретил среди приезжих знакомого. Торговцы остановились у Чонгиаки, Дарако и в большом доме Пэсу Киле. В этот вечер ни один охотник не мог усидеть дома в кругу своих детей или внуков, их тянула неудержимая сила в те дома, где остановились торговцы.
Токто тоже ощущал влияние этой силы и попытался отвлечься — взял на руки дочурку и стал ее качать.
«Надо вернуть долг, но сколько соболей У потребует? Соболей у нас много, излишки должны быть. Но сколько мы можем продать другим торговцам?» — вертелись в голове неотвязчивые мысли. Наконец Токто не выдержал, подозвал Поту, и они вдвоем попытались подсчитать, сколько соболей потребует болоньский торговец за долг, и не могли подсчитать. Знать-то они знали примерно цену, но не знали, как оценит торговец их соболей, никогда они сами не отгадывали им цену — лучшие соболи торговец принимал за средние, средние — как низшие сорта, а низшие шли по дешевке.
— Ага, отдадим этим торговцам несколько соболей, — предложил Пота. — Зачем тебе мучиться, везти муку и крупу из Болони? Мы здесь обменяем несколько соболей, а в Болонь поедешь, когда вскроется река.
— Ладно, обменяем здесь, — согласился Токто. — Давай посоветуемся, сколько соболей продадим, что на них возьмем.
— Ты сам скажи, сколько.
— Пять, семь — хватит?
— Хватит, наверно. Боеприпасов не будем брать?
— На лето хватит, осенью возьмем.
— На крупу, муку, сахар... На одежду будем брать?
— Это уж как женщины скажут. Оба, Кэкэчэ, Идари, материю будем брать на одежду?
— Надо взять, у нас же новый человек появился, — ответила Оба.
— Да, новые люди пришли, одежду надо... Пота, мало семь соболей, десять, двенадцать продадим.
— Сегодня пойдем продавать?
— Нет, лучше завтра, с утра лучше вести серьезные дола.
Пота разделся и лег. Идари помогла Обе вымыть посуду и тоже залезла под одеяло. Пота обнял располневшую жену.
— Сюда положи ладонь, сюда, — прошептала Идари. — Сейчас он начнет пинаться.
— Шустрый будет.
— Чувствуешь, чувствуешь?! Толкается.
— Ох, какой сильный! Ну-ка еще, еще, давай, сын! — Пота радостно засмеялся.
Токто медленно раздевался, он слышал шепот молодой пары, смех Поты и думал о том, что хорошо было бы, если бы осуществилась их мечта и его дочь вышла замуж за сына Поты, тогда они построили бы большую фанзу и зажили одной большой дружной семьей: не стал бы тогда Токто считаться с родовыми обычаями, для него тогда стало бы безразлично, что он из рода Гаер, а Пота — Киле.
«Тьфу ты! Дочка совсем вышибла мой ум, о чем только не заставит думать. Да мы сейчас уже живем как родные братья».
На улице залаяли собаки, открылась дверь, и в землянку опалился подвыпивший Чонгиаки.
— Токто, ты что это, спать? И ты, как тебя звать-то? Да не скрывайся больше, сознайся, что ты сын моего друга Ганги. Ты храбрый охотник, но все же вор. Да, вор, потому что чужую дочь украл. Ладно, о чем это я? Ты, Пота, не обижайся на меня, на старика, только ты не люби так сильно жену, это не кончится хорошо. Ну, вставай, Пота, вставай, Токто, пойдемте ко мне, у меня этот китаец остановился. Купец мой угощает всех водкой, ничего не просит, говорит, мы ему понравились, и потому угощает. Пойдем, пойдем.
— Дака, мы завтра утром придем, — попытался отказаться от приглашения Токто.
— Как утром, зачем утром? Сейчас есть время, сейчас надо идти. Китаец дал мне водку, я хочу вас угостить. Мне китаец сам дал, я не просил, как это делает Дарако. Ох-хо-хо, вы бы послушали, какой это нахал наш Дарако! Шучу, говорит, шучу, а сам требует от своего постояльца водку, так и говорит: «Дай водку, ты живешь в моем доме, ты кормишь своих собак моим кормом, за это ты должен мне платить. Так вот — плати водкой!» Да кто просит плату за то, что накормил проезжего человека, за то, что человек переночевал на его нарах? Нахал, ох и нахал! Сколько раз у меня останавливались приезжие торговцы, всегда у них больше десяти собак в упряжке, и я кормил их своим кормом, своих собак оставлял голодными, но чужих кормил. Да разве ты, Токто, попросил бы денег за то, что я поел у тебя мяса?
— Не подумал бы даже.
— Вот-вот, даже не подумал бы! А Дарако — нахал, требует за это водку. Нет, я больше с Дарако и разговаривать не стану. Почему он вдруг совесть потерял? Ох-хо-хо, плохо все это кончится. Ты одевайся, слушай меня и одевайся. Пота, ты тоже кончай обниматься, вылезай из-под одеяла... Обниматься много тоже плохо... Ох-хо-хо...
— Дака, я думал, ты совсем пьяный, а ты трезвый, — улыбнулся Пота.
— Кто сказал, что я пьян? Кто? Я совсем трезвый. Поругался с Дарако, чуть его не избил, и голова перестала от стыда кружиться.
Токто с Потой пошли с Чонгиаки.
— Здороваться не буду, разговаривать не буду, — ворчал старик, проходя мимо фанзы Дарако. — Это не нанай, это совсем не нанай. На-най. Великий смысл имеет — человек земли! Раз мы люди земли, мы должны все на земле любить, уважать, каждое насекомое ценить. А Дарако человеческую честь опозорил, за то, что накормил человека и его собак, водки просит. Ох-хо-хо! Что за негодяй живет среди нас!
Чонгиаки открыл дверь своей фанзы, перешагнул порог. Встретил его высокий, длиннолицый китаец с реденькой бородкой, с чуть раскосыми глазами, прятавшимися под дряблыми веками. Китаец широко улыбался, и его передние зубы хищно поблескивали в полутемной фанзе. Торговец вел себя как хозяин фанзы, встречал гостей, усаживал, угощал.
— Сегодня не будем вести деловые разговоры, — улыбаясь, говорил он на ломаном нанайском языке. — Вы долго в тайге были, давно не гуляли, водку не пили, сегодня я хочу вас угощать, дать вам отдохнуть, попраздновать.
— Может, сперва о деле поговорим, тогда погуляем? — предложил Токто.
— Нет, что ты, дорогой человек! Нет, нет! Пейте, пейте, я угощаю.
Китаец сам разогревал водку в медных кувшинчиках, сам подносил чарочки охотникам. Он был любезен, все время его крупные зубы поблескивали в полутьме — он улыбался.
На — земля. Най — человек.
Токто с Потой пили все чарочки, которые подносил китаец, изредка, по обычаю, предлагали старшим пригубить из своей чарочки, те только смачивали губы и возвращали обратно. Чонгиаки после нескольких чарочек мешком свалился на нары и захрапел. Уснул его сын Гокчоа, жена. Токто сам удивлялся, почему на этот раз водка не мутит его сознания, не подгибает ноги и не валит на нары, он пил со всеми вместе и один оставался трезвым. Пота сидел возле него и еле ворочал языком, обнимался с китайцем, с его приказчиком-погонщиком. В полночь Токто взвалил на себя Поту в вернулся домой.
Утром Пота проснулся невыспавшийся, пьяный.
— Ага, ты один иди к китайцу, я спать хочу, — сказал он и опять уснул.
Токто засунул за пазуху двенадцать соболей и пошел к Чонгиаки. Мог он зайти и к Дарако и к Пэсу и предложить своих соболей другим торговцам, но вчера пил он в доме Чонгиаки, угощал его длиннолицый китаец, и он обязан вернуться к нему. Если бы он зашел к другим, то его поступок сочли бы непристойным для нанай, он стал бы презираемым человеком. Честь и совесть у человека всегда должны быть в чистоте, как солнышко в ясный день!
Длиннолицый китаец с Чонгиаки приняли Токто, как родственника, опять посадили за столик, налили в чарочку теплой водки. Токто выпил несколько чарочек, попросил у китайца для себя кувшинчик водки и начал в свою очередь угощать его и Чонгиаки.
— Я тебе продам соболей, ты хороший человек, душа у тебя широкая, как у нанай, — говорил Токто, чувствуя, как на этот раз водка начала кружить ему голову. — Цену скажи, почем у тебя товары? Такая же, как у местных торговцев, или другая?
— Местные торговцы — хитрецы большие, они вас долгами опутали, а мы не даем в долг, мы сразу за соболей отдаем все, что захочет охотник. Но цены у нас немного выше, потому что мы сами к вам приехали. Когда торговец сам приезжает, у него товар всегда немного дороже стоит.
— Да, да, это верно, всегда дороже, — забормотал Чонгиаки.
В фанзу входили все новые и новые охотники. Китаец всех угощал водкой. Пришел к Чонгиаки и другой торговец, который остановился у Пэсу. Китайцы вежливо поздоровались и перебросились между собой несколькими словами на своем языке.
Токто вытащил из-за пазухи соболя.
— Наша цена на соболя всегда одинаковая, — сказал он. — Это у вас товары то дороже становятся, то дешевле.
Китаец взял соболя, повертел перед носом, подул, встряхнул.
— Как колонок, желтый, — китаец небрежно бросил соболя на столик.
Второй китаец подошел, рассмотрел и положил обратно.
— Худой соболь, кирпич чаю только стоит, — сказал он.
Соболь был не совсем плохой, немного ниже среднего сорта, и за такую шкурку можно было получить пуд пшена. Токто вытащил второго соболя. Китаец рассмотрел и сказал, что этого соболя еще может взять и дать за него двадцать патронов или две банки капсюлей.
— Боеприпасов мне не надо, одежду и еду буду брать, — заявил Токто. — Мешочек муки дадите?
— Нет, этот соболь не стоит мешочка муки.
— Сколько материи дадите за него?
— Бязи на халат.
Токто сам налил из кувшинчика водки, выпил и спросил:
— Сколько соболей возьмешь за то, что водкой поил?
— Ты что, дорогой охотник? Я тебя даром угощал.
— Не хочу я у тебя даром ничего брать! — взревел Токто.
Чонгиаки подошел к нему, взял за руки.
— Токто, Токто, он мой гость, ты зачем повышаешь голос на моего гостя?..
— Дака, я хочу за водку ему отдать соболя. Не хочу с ним иметь дела. Смотри, это разве плохой соболь? За него другие мне мешочек муки дадут, три сажени материи отмеряют, а он что говорит?
— Ох, охотник, ты горячий человек, в торговых делах нельзя горячиться, — миролюбиво сказал длиннолицый китаец.
— Я отвезу в Болонь своих соболей. Вот, смотри, каких соболей я хотел тебе продать, а ты меня хочешь обмануть! — Токто вытащил несколько длинношерстных черных, отливающих серебром, шкурок. Китаец, остановившийся у Пэсу, выхватил из рук Токто соболей и прижал к груди.
— Я покупаю этих соболей! Я дам тебе за них много материи, много пшена, чумизы, муки, водки!
Длиннолицый китаец протянул к соболям руку, но обладатель ценных шкурок отпрыгнул в сторону, как косуля, и сердито заговорил на родном языке. Длиннолицый вцепился ему в руку выше локтя, притянул к себе и прошипел что-то сквозь зубы.
— Я беру этих соболей, я беру! — закричал торговец.
Длиннолицый был старше, сильнее и, видно, пользовался властью над другими.
— Из-за тебя они ссорятся. Токто, ты нехорошо поступил, — говорил старик Чонгиаки.
— Не я виноват, смотри на них, какие у них сердитые глаза, будто две рыси встретились над мертвой косулей и не могут разделить добычу.
Длиннолицый спокойно отобрал шкурки, повертел перед носом, подул и сказал:
— Тебе надо было сразу эти шкурки показать. За них я хорошо заплачу и тех плохих соболей возьму.
— Охотник, я первый взял этих соболей, я дороже заплачу! — завопил второй торговец.
— Чего вы ссоритесь, вы же вместе ездите по Амуру, одно у вас дело? Чего ссоритесь? Если мы на охоте так ссорились бы, то не поймали бы ни одного соболя.
У Токто кружилась голова, и ему хотелось говорить без конца только о хорошем, помирить этих неразумных торговцев, внушить им, что дружба — это великое сокровище людское и ею надо дорожить.
— Ты умный человек, Токто, так, кажется, тебя зовут, — сказал длиннолицый торговец. — Мы не ссоримся, мы но можем ссориться, потому что вместе ездим. Мы одна компания, нам нечего делить. Эти шкурки, если будут у меня, будут сохраннее.
Токто продал длиннолицему все двенадцать соболей, погрузил на нарту мешочки муки, чуть больше пудовых, мешочки крупы, сахару, куски материи, водку и отвез домой. Потом он вернулся с Потой и продолжал гулять с другими охотниками. Торговцы по-прежнему угощали полоканцев, ставили один подогретый кувшинчик за другим. Охотники быстро пьянели и, не разобравшись ни в ценах товаров, ни в своих соболях, брали то, что давали торговцы.
— Вы честные люди, очень щедрые, ничего не жалеете для друзей, — льстили торговцы, — Мы теперь друзья, будем дружить, пока в наших глазах не померкнет солнце.
— Будем! Будем!
— Приезжайте к нам в следующем году!
— Водки везите побольше.
Охотники уходили домой и возвращались к Чонгиаки с лучшими соболями, которых берегли, чтобы расплатиться с болоньским торговцем. Токто тоже принес соболя за себя и за Поту. А Чонгиаки расхвастался своими шкурками, вытащил меховой мешок и стал показывать лучших соболей, черно-бурую лису.
— Нынче я заткну глотку У, расплачусь с долгами и больше не буду у него покупать, — горланил он, — вот у меня друг появился, он будет ко мне приезжать, я только ему буду продавать своих соболей. Правда, друг?
— Правильно, правильно, Чонгиаки, — кивал головой китаец, подливая в чашечку водку.
— Мы тоже не будем связываться с У, мы тоже с тобой будем в дружбе, — заявили и другие охотники.
Токто тоже обещал впредь продавать свою добычу только длиннолицему китайцу и обнимался с ним в знак дружбы. Он не помнил, как ушел домой, как уснул на нарах у Кэкэчэ. Оба и Кэкэчэ перетащили его на свое место и уложили спать. Пота приполз на четвереньках, просил у кого-то соболя, чтобы одарить китайцев, чтобы на их щедрость ответить еще большей щедростью.
На следующий день рано утром торговцы уезжали на Амур. Нарты их были пусты, если не считать легких, туго набитых пушниной мешков.
— Приезжайте в следующую зиму! Только вам продавать будем!
Охотники толпились возле нарт, молодые выводили упряжки на дорогу, держали собак за постромки, чтобы те не запутались в них.
— Прощайте, прощайте, добрые друзья! — отвечал длиннолицый китаец. — Вы щедрые люди! Спасибо тебе, Чонгиаки, я тебя не забуду, друг. Не забуду твою щедрость.
— Это ты, друг, щедрый, столько всякого товару оставил, столько водки оставил. Спасибо тебе! — кричал в ответ Чонгиаки. — Сегодня буду пить за твое благополучное возвращение домой!
Упряжки одна за другой скрылись за поворотом реки, и охотники стали расходиться.
— Токто, Пота, идите ко мне, за здоровье моего друга будем сегодня пить, — сказал Чонгиаки.
В этот день опять продолжалась попойка, и опять все стойбище было пьяно. А когда после продолжительной попойки охотники пришли в себя, многие недосчитались своих соболей. Больше всех пострадал Чонгиаки, он нашел меховой мешок совершенно пустым.
— Где наши соболи? — спросил он у сына, Гокчоа.
— Не знаю, ты же их отдавал китайцу.
— Как отдавал?
— Обыкновенно. Ты соболей отдавал, а он оставил тебе весь остаток товара.
Чонгиаки пытался припомнить, но затуманенная водкой голова ничего не соображала.
— Выходит, он обманул меня?
— Не знаю, я сам плохо помню. Он оставил свой товар.
— У нас много было пушнины, он обманул нас.
Чонгиаки вышел из фанзы на свежий воздух и сам не заметил, как очутился возле фанзы Токто. Он вошел.
— Токто, неправ был я, я думал, на свете нет человека хуже Дарако, а теперь знаю — есть люди намного хуже его. Торговцы — это самый плохой народ! Ну, обожди, длиннолицая росомаха, встретишься ты мне!
— Не угрожай, дака, не встретишь ты его больше, — сказал Токто. — Чего теперь ругаться? Задним умом не живут на земле — сами виноваты. Я тоже отдал много соболей.
После шумных попоек в Полокане наступили будничные тихие дни, мужчины занялись рыбной ловлей, некоторые ушли гонять косуль, и в стойбище всегда были в достатке свежее мясо и рыба. На исходе был март, а из тайги все еще не вернулись Пэсу Киле со старшим сыном Пора. В Полокане забеспокоились: никогда охотники не задерживались в тайге так долго. Сыновья Пэсу Годо и Молкочо собрались идти на розыски отца и брата, к ним присоединились Токто, Пота и Гокчоа.
Несколько дней охотники пробирались к месту охоты Пэсу, шли они с полночи до полудня, пока снег не начинал проваливаться под лыжами. У Пэсу, после того как он уступил один участок Поте, оставались два небольших участка — на один из них он отправил Годо с Молкочо, а сам ушел с Порой на другой, дальний. Этот его участок соприкасался с охотничьим угодьем тунгусов.
Годо бывал в тех местах и уверенно вел своих спутников. Ключ, на котором должна стоять аонга Пэсу, был исполосован старыми лыжными следами. Охотники наткнулись на два самострела, и если бы не природная осторожность, то кто-нибудь из них получил бы ранение в ногу.
Старые, выступавшие из-под тающего снега следы, неснятые самострелы на соболиных тропах подтверждали, что с охотниками что-то случилось, теперь надо было разыскать зимник, чтобы обо всем разузнать.
Зимник нашли по старым следам. Хвойная аонга под толстым слоем снега возвышалась как сугроб. Вокруг стояли высокие черные кедры, ключ по-весеннему звенел подо льдом, синички пищали на тонких ветвях клонов, дятлы перелетали с дерева на дерево в поисках пищи. Токто подошел к зимнику, обошел кругом, тщательно осмотрел следы.
— Последний раз выходили из зимника дня три-четыре назад, — сказал он. Молодые охотники тоже нагнулись над следами и согласились с Токто. — Старики говорят, когда в тайге в зимнике случается несчастье — не надо входить в зимник, — продолжал Токто.
— Что же делать? Мы должны знать, что с ними, — сказал Годо. — Может, они живы.
— Дака! Дака! — закричал Токто. Из зимника никто не ответил.
— Ама! Ама! — закричали Годо с Молкочо. — Ага! Ага! Откликнитесь!
В зимнике стояла тишина. Охотники переминались с ноги на ногу. Годо с Молкочо плакали.
— Ама! Ама! Вы живы?
Тайга отвечала протяжно и долго, на все лады повторяя интонацию голосов кричавших, она будто издевалась над людским горем.
Охотники все еще надеялись услышать ответ, Годо и Молкочо подошли к входу и прислушались. Зимник молчал.
— Что делать? Что делать? Я должен знать, что с ними, — повторял Годо.
Гокчоа с Потой разожгли костер неподалеку от зимника, поставили чайник.
— Нельзя входить в зимник, старики всегда строго запрещают входить, — повторил Токто. — В таких случаях заваливают аонгу и уходят.
— Нет, я должен знать, что случилось с отцом и братом, — твердо проговорил Годо.
— Тише! — Молкочо поднял руку и, почти засунув голову в зимник, замер. Годо оттолкнул его, открыл вход в зимник и зашел. Он постоял немного, привыкая к полумраку зимника, потом осмотрелся. С правой и с левой стороны от очага лежали брат с отцом. Годо не разглядел лица лежавших, шагнул в правую сторону и тут же отступил в испуге.
Человек, лежавший перед ним, пошевелил рукой и еле слышно простонал. Годо встал на колени и увидел изуродованное незнакомое лицо.
— Старших всегда слушайся, Годо, — прошептал лежавший. — Я, твой отец, говорю тебе... уходи отсюда... уходи... не прикасайся ко мне...
— Нет, отец! Я не уйду, я тебя спасу! — ответил Годо.
Молкочо заполз вслед за братом. К зимнику подбежали Токто, Пота и Гокчоа.
— Уходите...
Но Годо не слушал отца, он вышел из зимника, налил из чайника теплую воду в свою кружку и поднес отцу. Пэсу отстранил кружку слабой рукой.
— Уходите... как отец говорю... уходи, — с горечью простонал Иэсу. — Брат ваш умер... Здесь больные тунгусы были, умирали... от них мы... Слушайтесь Токто, уходите... быстрее завалите зимник и уходите...
Токто взял за ворот халата Молкочо и выволок его из зимника, потом таким же путем Годо.
— Это смерть, надо бежать отсюда! — крикнул Токто.
Он навалился на хвойные стены, и зимник рухнул, из-под хвои раздался долгий, надрывный стон. Годо с Молкочо зарыдали и повалились на мокрый, пахнущий весной снег.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Гости разошлись. Холгитон лег на постель, закурил. Супчуки вымыла посуду, потушила жирник и легла рядом.
— Ты слышал, русский доктор спас умирающего мальчика? — спросила она.
— Слышал. Об этом по всему Амуру говорят, — ответил муж.
— У трех старушек он вылечил глаза, теперь они видят, как видели в молодости. Все шепотом говорят, что русский доктор быстрее вылечивает, чем шаман. Говорят, если бы русский приехал раньше, то не умерли бы дети. Жалко ребятишек. Я много плакала.
— Ты не можешь не плакать.
— Жалко ведь, будто свои...
— Опять о ребенке заговоришь?
— Что же делать? Своего хочу заиметь. Стыдно мне, одна я детей не имею, выходит, я не такая, как все. Смеются уже надо мной.
«И надо мной, наверно, посмеиваются. Что будет, если вдруг Супчуки сбежит от меня да людям расскажет обо мне?» — подумал Холгитон и обнял жену.
— Ничего, Супчу, хорошо будем жить, — сказал он, — Ребенок будет у нас, ребенка мы возьмем у кого-нибудь из родственников, может, сироту разыщем. Будет у тебя ребенок. А завтра поедем в Малмыж, разменяем соболей на продукты, тебе возьмем материал на халаты, хочешь — на два халата, захочешь — на три. Поедем вместе. Другие жены будут завидовать тебе, они никогда не ездят с мужьями, не бывают в лавке торговца, а ты побываешь, сама выберешь себе на халаты.
Холгитон говорил еще долго, и чем больше говорил, тем приятнее становилось ему самому, и стало казаться, что он уж не такой плохой муж. Кто из няргинских охотников может похвалиться своим добрым отношением к жене? Пожалуй, никто.
Супчуки сопела у него на груди и молчала. Холгитону казалось, что она тоже счастлива, что имеет такого сердечного, любящего мужа.
— Ребенок будет, Супчу, будет. Ты будешь матерью, а я отцом. Завтра поедем в Малмыж, красивые халаты ты потом сошьешь. Все тебе завидуют, все.
Утром, когда весеннее веселое солнце поднялось над тонкими, словно ощипанными, тальниками, Холгитон запряг упряжку собак, посадил за собой Супчуки и выехал из Нярги. Сразу вслед за ним пустил упряжку и Ганга.
Собаки легко тащили нарту по подмерзшей дороге, пускались вскачь, заметив впереди ворон, шагавших между торосами там, где Пиапон с малмыжцами забрасывал невод.
Холгитон миновал скалу Голова, другую скалу, с раздробленной молнией вершиной, и огибал мыс, за которым должен был показаться Малмыж, когда впереди показались две тяжело нагруженные упряжки. Собаки рванулись и помчались навстречу нартам.
— Это, наверно, русские сами к нам едут, — предположила Супчуки.
Холгитон приготовил тормоз — толстую палку с железным наконечником. Нарты быстро сходились, собаки с лаем рвались вперед. Холгитон затормозил, нарта, подпрыгивая, прокатилась несколько саженей и остановилась. Супчуки соскочила, подбежала к вожаку и отвела его в сторону. Встречная нарта тоже остановилась, с нее поднялся среднего роста человек в меховой шубе, шапке и в унтах. Это был болоньский торговец У. Он подошел к Холгитону, поздоровался и спросил:
— В Болонь едешь?
— Нет, в Малмыж, — ответил Холгитон.
Подошел Ганга.
— Ты тоже к русским едешь? — спросил его китаец.
— Да, да, к друзьям в гости едем, — осклабился Ганга.
— К друзьям, говоришь, а сам за пазухой соболей везешь.
Ганга все скалил зубы и растерянно кивал головой.
— Сперва долг возвратите, не могу я долго ждать, — жестко сказал торговец, но тут же переменил тон: — Холодно сегодня, быстрее бы доехать до Нярги, там согрелись бы. Может, вернетесь, у меня есть то, за чем вы едете в Малмыж.
Холгитон молча ухватился за передок нарты и повернул ее назад в Нярги.
— Садись, Супчуки, домой поедем, — сказал он. Торговец сел на свое место и погнал собак вслед за нартой Ганги. Отдохнувшие сильные собаки легко потащили тяжелую нарту. Китаец раньше всегда останавливался в доме Гаодаги, но теперь решил переночевать у Холгитона. Холгитон с Гангой помогли погонщику накормить собак, перетаскать груз в фанзу. Пришли на помощь и Гаодага с Чэмчой.
— Чего же ты, У, у меня не остановился? — обиделся Гаодага. — Дорогу в мой дом забыл?
— Не обижайся, Гаодага, должен я когда-нибудь уважить фанзу Холгитона? — ответил торговец. — Как-никак он старшинка, дянгиан.
Такими словами но извинишься — это знал торговец, он нарушил нанайский закон гостеприимства: если раньше, останавливался в доме Гаодаги, то всегда должен останавливаться только у него.
— Мой дом не опоганен, грязных женщин нет, а ты все же мимо проезжаешь. Оскорбил ты меня, — повторял Гаодага.
— Ничего, Гаодага, ничего, сейчас мы выпьем за нашу встречу, и твое сердце смягчится.
Торговец вытащил три медных кувшинчика и стал разогревать водку. Начали выпивать. Отвыкшие от водки за зиму охотники быстро опьянели и после полудня уснули на нарах. Торговец сидел за низким столиком и курил трубку. Он был доволен услышанным, опьяневшие охотники, разоткровенничавшись, сообщили, кто сколько соболей поймал, у кого сколько кабарожьей струи; узнал он и о преступлении Пиапона, кто-то сказал, что Пиапон сам взял из амбара большого дома невод. Торговец обдумывал теперь, как ему выманить у охотников всю их добычу, как наказать гордого Пиапона за осеннее оскорбление.
На улице залаяли собаки, закричали мальчишки — вернулся Баоса с сыновьями. Торговец вышел на улицу, издали понаблюдал, как суетились женщины и ребятишки возле большого дома, и вернулся в фанзу. Он еще долго сидел за низеньким столиком и мысленно следил за Баосой: вот Баоса с сыновьями прячет таежное снаряжение в охотничьем амбаре, берестяные сундучки с одеждой в одном углу, охапки самострелов — в другом, копья и разные ловушки отдельно; старик сходит с амбара, идет домой, открывает дверь, заходит, бросается на колени перед Гуси-Тора...
Торговец подождал еще несколько минут, прихватил водку и пошел в гости в большой дом. Как всегда после возвращения охотников, в большом доме собрались многочисленные гости, суетились женщины, приготавливая еду, ребятишки хвастались полученными в подарок стрелами и луками, мужчины важно восседали на нарах, вспоминали охоту.
Баоса сидел на своем месте и оживленно беседовал с соседями. Увидев китайца в дверях, он по-юношески соскочил с нар, подбежал к нему.
— Здравствуй, здравствуй, У, проходи, будь гостем, — говорил он. — Агоака, подай трубку.
Баоса суетился как никогда, и это поразило торговца.
«Он помолодел, посвежел, — подумал он, разглядывая Баосу. — Вон какие тугие стали щеки, глаза не те, злобы нет в них. Тайга его омолаживает. Что это за тайга такая, почему оттуда эти охотники возвращаются такими бодрыми?»
— У тебя, старик, вижу, удачная охота была, — сказал торговец.
— Удачная или неудачная — это не твое дело, — отрезал Баоса.
— Я говорю это потому, что ты веселый, бодрый.
— Почему бы не быть бодрым, домой вернулся, потому радуюсь.
«А все же ты злой старик», — подумал У.
— Ты уже долги приехал собирать? Боишься, другие торговцы опередят?
— Не боюсь. Мои должники с другими торговцами дела не имеют.
— Говори это своим друзьям, я сам лучше тебя знаю.
— Ты хочешь напомнить о Пиапоне?
— Зачем напоминать? Он тебе ничего не должен.
— Как это ничего?
— Он сам у тебя что-нибудь брал? Скажи, брал?
— Нет, но он жил в большом доме...
— Я брал, я глава большого дома, я твой должник!
Китаец не ожидал такого выпада, он сразу сообразил, что продолжать разговор ему невыгодно.
— Ты глава большого дома, но разве так гостей встречают? — спросил он с наигранной обидой. — Сколько я бывал в других домах, все хозяева гостеприимно, хорошо встречали меня.
— Гостям я всегда рад и встречать их умею, но ты хитрый гость, всегда у тебя в мыслях одни долги да шкурки соболей.
— Сейчас я к тебе зашел проведать о здоровье, поздравить с возвращением.
— Как видишь, жив-здоров вернулся. Эй, женщины, скоро еда будет?
«Выходит, Пиапон взял верх над отцом, — размышлял торговец. — Баоса сам будет платить долг большого дома. И за Пиапона будет платить. Но как же Пиапона наказать?»
Женщины возле очага готовили талу из муксуна, белая волокнистая, мелко накрошенная рыба горками возвышалась в чашках.
— Говорю я тебе, что картошка, которую русские привозили, была рассыпчатая и какого-то непонятного вкуса, — твердила одна из резчиц.
— «Рассыпчатая», какая там рассыпчатая? — возразила другая.
— С какого времени твой язык не стал отличать сладкое от горького? — спросила третья.
— Правда, сладкая была, — сказала Исоака, — очень даже сладкая.
— Сейчас, отец! — откликнулась Агоака. — Не вся сладкая была, Исоака, помнишь, одна картошка попалась зеленого цвета, та горькая-прегорькая была.
— Нет, картошка вся сладкая была, дети у меня ели и говорили, что русские в картошку сахарную воду краплют.
— Сладкая была! Я их держала в амбаре, занесла, а они будто камни. Растаяла, сварила. Сладость была, как сахар!
— А я дома держала, и нисколько не сахарные.
— Ну и дура, если русские в следующий раз привезут картошку, ты храни ее в амбаре.
— Женщины, скорее, а то отец уже злится, — сказала Агоака.
Ножи еще дружнее застучали по столику. Агоака разнесла первые чашечки талы.
— А-я-я, тала из максуна! — обрадовался Баоса. — Где это максунов добыли?
— Это ага принес, он неводом поймал.
— С кем это он ловил?
— Русские помогли ему.
— Где он сейчас, почему не пришел?
— На рыбалку с утра уехал, снасть на калугу проверяет.
Баоса подсолил талу, перемешал и, ловко подхватив палочками, поднес ко рту. Рядом с ним ели китаец и двое стариков, чуть подальше за другим низким столиком сидели Улуска, Дяпа, Калпе и несколько молодых охотников. Агоака поднесла им талу и первому подала мужу.
В это время вошел Полокто, он хотел было присоединиться к молодежи, но Баоса пригласил его за свой столик. Полокто поздоровался со всеми, принял из рук сестры чашку талы и стал есть.
— А ты, старик, знаешь, чьим неводом Пиапон ловил рыбу? — спросил У.
Старики и молодежь насторожились.
— Чьим бы ни ловил, какое мое дело, — ответил Баоса. — Всю зиму талу не пробовал, а теперь с удовольствием ем.
— Отец, он наш невод брал, — сказал Полокто.
— Наш невод? Из амбара? Агоака, где твой брат взял невод?
— В нашем амбаре. Только, отец, не он сам брал, взял Митропан, а ему помогал доктор Харапай.
— Как ты разрешила чужому в амбар лезть?! — закричал Баоса. — Какой такой еще доктор Харапай? Вор...
Агоака пыталась что-то ответить, но Баоса не давал ей промолвить слова.
— Погоди, чего опять раскричался, — спокойно проговорил один из сидевших рядом стариков. — Узнай толком, тогда сердись. Ты знаешь, твоя внучка, дочь Пиапона, умерла?
Баоса ошалело взглянул на соседа и замолчал.
— Средняя дочка умерла. Ты знаешь, еще сколько детей умерло в стойбище? Не знаешь. Зачем зря кричать. Пиапон спас наших детей, внуков, внучек, женщин: люди без свежей рыбы всю зиму жили, заплесневелую юколу ели, животы у всех болели. Он наловил рыбы, накормил людей. А доктор Харапай у смерти отобрал мальчика, вот кто Харапай, а не вор.
— Пиапон один похоронил всех детишек, картошку выпросил у русских, — вставил слово второй старик.
— Невод взяли русские, это же все видели, — спокойно продолжал старик, глядя ясными глазами на торговца. — Зачем ты напраслину городишь на Пиапона?
— Я повторяю то, что мне сказали очевидцы, — ответил У.
— Какие очевидцы? — спросила Агоака.
— Ладно, тебя не спрашивают, — прервал ее Баоса. — Чего ты лезешь не в свое дело?
Баоса уткнулся в чашку и молча ел холодную тающую во рту талу. Он думал о поступке Пиапона, о том, стоит ли ему поднимать скандал или мирно уладить дело; ведь защищать Пиапона станут все няргинцы, чьих детей он спас от голода и болезней. «Пожалуй, лучше промолчать. Надо предупредить Полокто, чтобы по дурости не начал скандалить, а то уже считает себя жильцом большого дома и может заступиться за свое имущество. Эх, Пиапон, Пиапон, трудный ты мой сын! Что это он еще в тайге натворил?»
Гости ели талу, потом ели мясо и только после этого начали пить принесенную торговцем водку. Пили, как всегда, неторопливо, маленькими чашечками. Несмотря на то, что пили после плотной еды, быстро пьянели.
— Ты, У, всегда врешь, ты никогда не ходишь в гости без задней мысли, я тебя знаю! — кричал Баоса. — Говори, ты на Пиапона сильно сердишься? За то, что он отказался тебе долг платить? Я заплачу долг, это мой долг, понял?
— Отец, что ты говоришь, отец? — наседал на Баосу Полокто. — Пусть Пиапон заплатит часть долга, мы не будем платить его долг.
— Правильно, Полокто, верно, — хлопал У по плечу Полокто.
— Полокто, ты еще не вернулся в большой дом, ты еще не стал де могдани, я здесь главный. Я твой отец!
— Если Пиапон не будет платить часть долга, я тоже не буду платить и в большой дом не вернусь!
— Как не вернешься?! Ты же слово давал в тайге.
— Давал! Но если Пиапон не будет платить долг — не вернусь.
— Вернешься! Куда денешься! Я тебя, собачьего сына, заставлю вернуться!
— Не заставишь, отец.
— Заставлю! Я все у тебя отбору, понял ты? Я все у тебя отберу, даже ружье и острогу отберу. Детей твоих буду кормить, они сами ко мне перейдут.
Полокто, хотя и был в сильном опьянении, понял, что угрозы отца — не пустые слова. Баосу успокаивали двое стариков, и Полокто воспользовался случаем.
— Дакана! Смотрите, слушайте, как отец разговаривает со мной. Кто я? Не старший ли сын? Почему Пиапона он любит, все прощает, а со мной так разговаривает? Пиапону все дозволяет...
Дакана — множественное число от дака.
— Ты вернешься, собачий сын, вернешься! — повторял Баоса.
— Скажи, вернусь, — подсказывал один из стариков. — Данное в тайге слово не должно быть нарушено.'
— Долг Пиапона...
— Вернешься, я тебя заставлю! Все отберу!
— Вернусь, отец, вернусь, — забормотал Полокто. — Только Пиапон тоже пусть возвращается.
Торговец прислушивался к перебранке отца с сыном, подливал водку в чашечки, разговаривал с молодыми охотниками, расспрашивал об охоте, шутил, он делал свое торговое дело.
«Пиапон не наказан, ну что ж, придет время, своими руками накажу! — клялся он. — А ты, Баоса, — крикун, завтра же будешь наказан, тебе еще долго жить, и пока жив, со мной будешь иметь дело. Я тебя научу вежливо разговаривать».
Торговец поил охотников, сам для виду только пригублял чашечку и оставался совершенно трезвым. Он уже знал, с кого сколько драгоценных шкурок получит, какую часть долга снять, подсчитывал в уме, сколько товара отпустить тому или другому охотнику. Торговец У знал каждого своего должника в лицо, был знаком с его женой, с детьми, он лучше своего должника знал, в чем нуждается его семья, сколько ему требуется продовольствия и одежды. Он больше разговаривал с главами семой больших домов, говорил им много приятного, щекотал их самолюбие и не забывал им подливать в чашечки. К молодым охотникам подходил только тогда, когда ему нужны были сведения о добыче: водка быстрее развязывала языки молодым.
В большом доме самым молодым охотником был Калпе, его и пытался подпоить У. Калпе в детстве пострадал от водки и возненавидел ее. Однажды, когда ему было лет шесть, на большом религиозном празднике — касан — мать поднесла ему чашечку водки, пожелав счастья. Водка обожгла горло, и от неожиданности Калпе всхлипнул, вдохнул капли водки и зашелся в страшном кашле. Мать испугалась, налила еще чашечку водки и, сжав голову мальчика, пыталась насильно влить ему в рот.
«Пей, пей, сынок, пей! — умоляла она со слезами на глазах. — Это нехорошо, ты счастье отвергаешь, счастье отвернется от тебя. Не упускай его, с кашлем вылетит счастье. Воздержись, не кашляй. Пей...»
Она еще влила ему водку, но Калпе выплюнул ее всю и кашлял долго, до слез в глазах. А мать все не отступала, она не хотела, чтобы сын оставался в жизни без счастья, и она все же заставила его сделать глоток.
С тех пор Калпе боится водки, на всех праздниках, свадьбах, похоронах делает вид, что выпивает глоток из поднесенной чарочки, а на самом деле в рот ему не попадало ни капли: всю водку он отдавал какому-нибудь уважаемому старику или старушке. На всех выпивках сперва ему было скучно и до тошноты неприятно смотреть на пьяных, но потом он привык и, хотя не пил, чувствовал легкое головокружение, необычную бодрость.
— Говорят, Калпе, ты добыл столько соболей, что на тори хватит? — подмазывался китаец к юноше.
— Хватит, — улыбался в ответ Калпе.
— О, тогда невесту я тебе подыщу. А может, ты сам какую девушку подобрал или отец нашел?
— Есть.
— А если она красавица — кармадян, дорого запросят. У тебя тогда не хватит соболей.
— Хватит, не хватит — тогда братья помогут.
— Не помогут, они сами немного добыли.
— Врешь, ты ничего не знаешь.
— О, я вижу, ты тоже злой. Ладно, на, выпей.
Калпе поднес к губам чашечку, кадык у него задвигался снизу вверх, сверху вниз.
— Дака, на, дарау, — Калпе поднес чарочку соседу-старику. — Все, все отпей.
— Ты почему все чарочки другим подносишь? Меня не уважаешь? — спросил У.
— Стариков больше уважаю.
Торговец отошел от Калпе и стал подпаивать Улуску с Дяпой. Калпе вышел на улицу.
Дарау — отпей глоток. Подношение уважаемым людям.
Наступили мартовские сумерки, морозные, со звенящим ледком под ногами, с запахом весеннего мокрого снега, перемешанного с запахом прелой травы, отсыревшей глины. Калпе вдохнул полной грудью этот до боли знакомый с детства запах весеннего стойбища. Как он был приятен после спертой духоты фанзы! Юноша отошел от дверей к сложенным шатром плавням. Здесь пахло собаками, мокрым деревом и снегом. Весна! Только весной охотник так остро ощущает все запахи. С берега донесся знакомый окрик: «Тах! Кай!» Калпе прислушался. Это был голос Пиапона. Калпе побежал навстречу брату, подскочил к нему, обнял.
— Вернулся? Не души, не души, — обрадованно сказал Пиапон, обнимая брата.
— Я тебя жду, ага. Мне надо с тобой поговорить, — сказал Калпе.
— Какую-то тайну привез?
— Может, тайна, может, нет.
— Ладно. Распрягай собак, сделаем талу из осетра и поговорим.
Пиапон поймал полуторасаженную калугу и трех средних осетров. Улов убрали в амбар, распрягли собак. Дярикта начала готовить талу. Братья уединились в угол землянки, закурили.
— Ага, про тебя плохо говорит торговец, — сказал Калпе, — будто невод сам взял.
— Он собака, этот У. Пусть говорит.
— Не это главное, о чем я хотел поговорить. Ага, я в тайге видел странный сон. Пришел ко мне во сне древний старик, спросил: «Нет здесь Заксоров?» Я хотел ответить: «Я — Заксор», да нарочно спрашиваю: «Зачем тебе, дака, Заксоры?» — «Я им отомстить хочу, — говорит старик. — Один из них убил моего любимого сына». Я страшно испугался... Отец попросил меня, чтобы я никому не рассказывал о разговоре с Подей, — говорил Калпе.
Пиапон попросил дочку принести с очага уголек, раскурил потухшую трубку.
— Ага, скажи, верно, ты убил Подю?
— Если сам он сознался — выходит, убил. Только я его самого, поганого старика, хотел убить.
Калпе невольно отодвинулся от брата и уставился на него вдруг округлившимися от испуга глазами.
— Не бойся, Калпе, если он нынче вас не узнал, то и в следующем году не узнает. Ты скажешь, что из другого рода.
— А ты, ты как?
— Я больше не буду ходить на Сихотэ-Алинь. Насчет охотничьих участков не беспокоюсь, большие дома распадаются и участки дробятся, а то и без хозяина остаются. Кроме Сихотэ-Алиня много других хороших мест. Потом еще одна думка есть у меня, переехать жить на другое место, может, даже к русским: Митропан обещает построить мне деревянный дом.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Снег мокрый, вязкий, лыжи утопали в снежной жиже, снег налипал снизу, но идти надо, подальше уйти от страшного зимника с полуживым Пэсу. Шли гуськом. Прокладывал лыжню Токто, заменяли его Пота, Гокчоа. Братья Годо и Молкочо, потрясенные увиденным, обессиленные плелись сзади. Они то и дело останавливались, оглядывались назад, слезы ручейками сбегали по их тугим обветренным щекам. Тогда останавливался Токто и молча поджидал братьев.
«Ничего, поплачьте, ребята, не стесняйтесь слез, — думал он. — Ваш отец был настоящий человек, храбрый. Какой человек! Слышал нас, но ради нас, переборов мучения, стиснув зубы, молчал. Какой человек! Поплачьте, ребята, легче станет, отец ваш стоит мужских слез!»
Отвернувшись от товарищей, смахивали слезы и Пота с Гокчоа.
— Я бы не вытерпел, я бы кричал, звал людей на помощь, — сказал Гокчоа. — Нет, я бы не смог...
— И я бы, наверно, не вытерпел, — проговорил Пота. «Не каждый человек это выдержит, нужно быть железным», — думал Токто.
Остановились на ночлег только тогда, когда перебрались через три пологие сопки и по-весеннему журчащий ручеек. Разожгли костер, вскипятили чай. Никто не проронил ни слова. Годо отпил глоток и, будто позабыв о нем, уставился на огонь немигающими глазами. В больших влажных глазах полыхало пламя костра.
— Я не забуду его лица, — тихо проворил Годо. — Весь день он перед моими глазами. Страшно. Это был он, наш отец, но лицо не... страшное.
— Я тоже не узнал, — сказал Молкочо. — Оно было все в язвах...
Опять замолчали. Потрескивал костер, ночной ветерок шуршал в кронах деревьев, кричала какая-то ночная птица. Потом со стороны оставленного зимника раздался тоскливый крик другой птицы, он так походил на стон умирающего Пэсу, что все вздрогнули. Пота опасливо огляделся по сторонам. Гокчоа ближе придвинулся к Токто, братья Годо и Молкочо замерли.
— Это не птица... — прошептал Гокчоа.
— Это не птица, — почти одновременно с ним проговорил Годо. — Токто, я не могу вернуться домой, это отец зовет нас, я должен вернуться к нему. Если он жив — останусь с ним, если умер — похороню. Я не могу так оставить его. Токто долго молчал. Молчали Пота, Гокчоа, Молкочо.
— Ты не должен возвращаться в зимник, — наконец сказал Токто. — Ты любишь отца, люби до конца жизни. Помни его. Ты должен подчиниться последнему его слову...
Остывал чай в кружках, в чайнике, который сняли с тагана. Пить никому не хотелось. Пота подложил дров в костер.
— Ты бы вернулся, если бы с твоим отцом случилось? — просил Годо.
— Не знаю, честно говорю, но знаю. Если бы он не говорил...
— Токто, я вернусь к нему, не буду разбирать зимник, подойду, спрошу...
— Может, поселимся рядом... — сказал Молкочо.
— Пет, ребята, нельзя, если любите отца, послушайтесь его последнего слова.
— Поселяться рядом не нужно, — тихо проговорил Годо, — если умер — похороним... а может, он выживет...
Токто ничего не ответил, он закурил трубку и, полулежа на хвое, смотрел на огонь. Все молчали и незаметно Пота с Гокчоа задремали. Годо с Молкочо сосали потухшие трубки. Токто подбрасывал дрова в костер, поддерживал огонь.
— Дедушкино ружье лежало возле отца, — сказал Годо. — любимое ружье деда и отца.
— Мало пороха требовало, — проговорил Молкочо. Токто слушал скупой разговор братьев и гадал — вернутся завтра Годо с Молкочо в зимник или пойдут с ними домой.
— Мертвым остается все, — сказал он задумчиво.
— Не могу я идти домой, — повторил Годо.
— Силы надо беречь, заснем, ребята, немного, — предложил Токто.
К утру охотники подкрепились мясом, рыбьим жиром с лепешкой, выпили чай. Токто не напоминал о ночном разговоре Годо и Молкочо, не стал расспрашивать о их решении, но, к его удивлению, братья молча последовали за ним в стойбище. К полудню, когда охотники остановились на дневку, вдруг закашлял Годо. Он кашлял долго, придерживая горло руками, и жаловался на жар и недомогание. Его знобило.
— Холодно, ребята, в горле першит... — говорил он, продолжая кашлять.
Развели костер, заварили чай. Годо выпил кружку и немного успокоился.
— С чего это вдруг знобить стало? — спрашивал он.
— Ночью не спал, не отдохнул, — ответил Токто.
— Об отце, брате много думаешь, — сказал Пота.
Ночью Годо стало еще хуже, его непрерывно трясло, душил кашель. Утром он попытался встать на лыжи, но не прошел и ста саженей — сел на обледенелый наст.
— Поясница... что-то плохо, — прошептал он.
— Не можешь идти? — растерянно спросил Молкочо.
— Не знаю... отдохну немного...
— У тебя все лицо горит, — сказал Токто.
— Жарко... дышать тяжело...
Молкочо разрыл твердый ледяной наст, достал горсть зернистого темного снега. Годо прижал снег ко лбу, потер лицо.
— Легче... на ногах доберусь...
— Нарты бы, — сказал Пота.
— Ничего... я сейчас...
Годо встал на ноги, уверенно прошел несколько шагов, скатился с невысокой возвышенности и у самого подножия упал как подкошенный и ударился головой о дерево.
Токто первым подкатил к нему, приподнял голову — Годо рассек лоб, и из раны шла кровь.
— Что с ним? Как? — встревоженно одновременно спросили Молкочо и Пота.
Годо поморщился, потрогал лоб ладонью.
— На дерево, что ли, скатился? — спросил он.
— Плохо дело, ты не можешь идти, — сказал Токто.
— Недалеко до дому... долечу...
Пота с Молкочо переглянулись. Гокчоа удивленно уставился на больного.
— Снимите с него лыжи, — попросил Токто.
Годо уложили на хвою, а Токто принялся из лыж больного готовить волокушу. Молодые охотники, напуганные всем происшедшим, растерянно сидели рядом.
— Ага, что такое с Годо? — наконец спросил Пота.
— Не знаю, заболел, видно, — ответил Токто.
— Может, у него с головой что...
— Что может случиться?
— Отец живой там, может, от этого с головой что...
— Не знаю, шаман узнает.
Больного положили на волокушу, и охотники двинулись дальше.
— Ребята! Ребята, мы идем к отцу? Молкочо, ты не слышишь, отец нас зовет. Быстрее, беги быстрее, не отставай! Токто, ты злой человек, ты очень злой человек. Зачем развалил аонгу, зачем погубил отца? Молкочо, Молкочо, отец жив, он зовет нас. Беги быстрее!
Годо бредил. Токто шепнул ребятам, чтобы те не обращали внимания на речь больного и шли как можно скорее. Годо приходил в себя, тихо стонал, кашлял и просил, чтобы разрешили ему идти на лыжах.
Провели еще одну бессонную тревожную ночь в тайге и на следующий день к полудню подходили к стойбищу. Их ждали и заметили сразу, как только они вышли на прямую Харпи, и, увидев лишь четверых идущих, тревожно заговорили:
— Возвращаются. Вместо семерых только четверо... Никто еще не посмел высказать и слова о несчастье, но все сердцем почуяли беду. Охотники, молодые и старые, собрались возле фанзы Пэсу Киле. Внуки Пэсу хотели было пойти встречать возвращавшихся, но старики не пустили их: не надо бежать навстречу несчастью, оно само всегда может посетить тебя и твой дом.
— Пятого на волокушке тащат, — сказал кто-то.
— Что такое, неужели не дошли до аонги? — тревожно спросил Чонгиаки Ходжер.
— Всякое бывает, медведей-шатунов много, — сказал Дарако.
Старушка Кисоакта со снохами стояла тут же, она плохо видела и потому расспрашивала всех — кто идет на своих ногах, а кого тащат на волокуше. Зоркие молодые охотники по походке, одежде узнали шагавших.
— Гокчоа идет, вон он справа хромает.
— Токто в середине, это он, а слева, кажется Годо.
— Нет, это Пота.
— Точно, Пота, рядом с ним Молкочо.
— Годо везут, моего сына Годо везут, — заволновалась Кисоакта. — Отца со старшим братом не разыскали...
Охотники приближались медленно, так медленно, что встречавшим казалось, будто прошло полдня, как они показались на реке. Юноши не выдержали и пошли навстречу возвращавшимся.
— Несчастье, большое несчастье, — сказал Чонгиаки, когда Токто с молодыми охотниками остановился на берегу и встал, опершись на лыжную палку.
Толпа зашевелилась, многие бросились на берег, вместе с ними ковыляла старушка Кисоакта. Она опустилась рядом с Годо, обняла его.
— Мама, чего ты? Я живой, живой, — через силу улыбнулся Годо.
— Вижу, живой, а отец, старший брат где?
Годо закрыл глаза.
— Дада, надо его домой затащить, — сказал Токто.
Вслед за вернувшимися охотниками в фанзу ввалились все встречавшие. Годо раздели, уложили на нары, жена дала ему выпить горячего чая.
Тем временем при гробовой тишине Токто рассказывал о встрече с Пэсу, о заболевании Годо. Зарыдали женщины, запричитала жена старшего сына Пэсу, Кисоакта с растрепанными волосами заплакала перед очагом.
— Живой был, но почему потребовал развалить аонгу? — недоумевал Чонгиаки.
— Сказал: «смерть людская, оспа».
— Не все от нее умирают, — сказал какой-то старик.
— Если отец Годо потребовал, то так надо было, — сердито сказал Донда. — Кто умрет, а кто не умрет — может знать только шаман.
— Верно, — подтвердил Чонгиаки. — Все это очень странно, надо покамлать, узнать, что случилось с Пэсу.
Старики закивали в знак согласия. Сидевший возле Токто Гокчоа слез с пар и, пошатываясь, пошел к двери.
— Устал Гокчоа, — сказал Токто. — Мы две ночи не спали.
— У меня голова сильно болит, спать хочу, — сказал Молкочо.
— Ты, Молкочо, теперь за старшего, — сказал Чонгиаки. — Годо болеет, ты старший. Подумай, с матерью посоветуйся, как быть с отцом и старшим братом.
— А что делать?
— Похоронить их надо.
— Как похоронить? Они же там...
— Где бы человек ни умер — хоронить его надо, — сказал старик Донда. — Нехорошо, когда души умерших неприбранными, неприласканными бродят по земле, обозлившись, они делаются злыми духами.
— Как хоронить? Тел их нет.
— Тело делают из шелка, травой набивают. Старшие за тебя сделают.
— Ладно, поговорю с матерью. Голова болит у меня и тело что-то трясет.
— От усталости это, ложись отдохни, — сказал Чонгиаки.
Вечером в большом доме Пэсу снова собрались почти все полоканцы: мужчины, женщины и дети. Старые охотники занимали почетное место, рядом с ними сидел молодой шаман. Молодежь заняла нару старшего сына Пэсу Поры рядом с больными Годо и Молкочо. Женщины расселись кто где мог, но большинство их находилось возле очага. Старушка Кисоакта на правах старшей в семье угощала шамана, просила его, чтобы он разузнал все подробности смерти Пэсу и старшего сына, попытался узнать, чем можно вылечить Годо и Молкочо. Перед камланием шамана несколько мужчин и женщин выполнили танец с бубном и побрякушками, по на этот раз все танцующие были серьезны и сосредоточены, никто не шутил и но смешил зрителей. Шаман надел япгпан, взял бубен. В большом доме воцарилась напряженная тишина, прерываемая только кашлем больных. Шаман камлал, он даже не слез с нар, ударил несколько раз по бубну, спел короткую непонятную для слушателей песню и положил бубен, отстегнул ремень с побрякушками.
— Нельзя, — пробормотал он. — Не смогу я... это тот же ваш семейный злой дух.
— Но как, как отец Годо, жив он? — звенящим голосом спросила Кисоакта.
— Когда он из когтей отпускал...
— Детей моих спаси! Сыновей спаси! Кормильцы они.
Шаман закурил трубку и опустил голову — так он признавался в своем бессилии, ничтожестве перед силой злого духа. Кисоакта заплакала в полный голос, она по обращала внимания на двух больных сыновей, не оберегала больше их покой: она больше не могла сдерживать себя. Запричитали, заплакали все женщины большого дома, заревели дети — одни от испуга, другие, постарше, — от охватившего их детские души горя.
Народ стал расходиться: женщины — укладывать детей, молодые охотники — чтобы отоспаться перед рыбной ловлей или охотой по насту; остались только старики, старухи и близкие родственники. Токто с Потой не отоспались за день и тоже ушли домой.
«Опять этот злой дух, — думал Токто, лежа в постели. — Теперь он еще злее, чем прежде, теперь он знает, что на него охотились, как на белку. Великого шамана надо было призвать на помощь. Хулусэнский шаман смог бы с ним справиться. Неужели он не пощадит Годо и Молкочо?»
— Дочь наша уже аукает, — шептала рядом Оба. — Ты но видел, как она улыбается? Не веришь? Улыбается, очень хорошо улыбается. Я сон видела, кажется, у нас еще будет ребенок.
Токто обнял жену.
— Видела двух лебедей, говорят, это хорошо, дети ко мне возвращаются.
«Женщина всегда остается женщиной, — думал Токто. — Умерли люди большого дома, злой дух угрожает, а она только о себе думает, радуется своему счастью».
— Идари совсем отяжелела, — продолжала, все больше вдохновляясь, Оба. — Скоро роды. Раньше я думала, у ней дочь будет. Теперь вижу, сын появится.
— И ты мне родишь сына, — прошептал Токто.
— Обязательно рожу, сон я видела верный.
Оба развеяла тревожные мысли Токто, и он уснул спокойным глубоким сном.
Ночью небо затянуло тугой черной тучей, и к утру повалил снег, поднялся ветер. К полудню ветер усилился, и замела пурга, как зимой. Женщины запасались водой, мужчины помогали им, готовили дрова.
— Что же это такое, в апреле зимняя пурга поднялась? — удивлялись полоканцы.
А из фанзы в фанзу ползли тревожные слухи:
— Гокчоа совсем плох...
— В большом доме Пэсу еще трое детей заболели. Молкочо плохо, а Годо чувствует себя хорошо, только на теле и на лице появилась сыпь...
— У Дарако заболела жена.
— Старик Донда занемог. Ему-то пора...
— А двое внуков его пластом лежат.
— Да что же это такое? Неужели злой дух семьи Пэсу разозлился на все стойбище?
— Люди, что будет со стойбищем?
Пурга выла; стонала за тонкими стенами фанз, скребла по травяным крышам, а людям казалось, что это рвется в их жилище злой дух. Люди оставляли фанзы и шли в соседние большие дома и устраивали гонение злого духа. По всему стойбищу несся истошный, полный страха многоголосый человеческий крик:
— Га! Га-а! Га! Га-а-а! — И, словно продолжая этот крик, на улице выли голодные собаки.
В большом доме Пэсу было полно людей. Старушка Кисоакта, почерневшая от горя, ослабевшая от изнуряющего плача, все еще не приняла решения — устраивать похороны мужа и старшего сына или отложить до лета.
Три дня бесновалась пурга, и на четвертый день утром наступила зимняя тишина при ярком весеннем солнце. Но недолго держалась эта тишина. Только поднялось солнце на сажень над сопками, как тишину разрезали женские голоса, горестные, сжимавшие сердце: «Гокчоа умер!», «Годо умер!», «Старик Донда умирает!..»
Стойбище зашевелилось, закопошилось — все здоровые полоканцы пошли навестить родных умерших, пособолезновать им. Пота с Токто готовили усыпальню для Годо. Оба, обняв Кисоакту, плакала перед очагом.
Годо положили на усыпальню из школьных палок. Прикрыли страшно вздувшееся, в язвах лицо белым лоскутком. А рядом на соседней наре бредил Молкочо, за ним кашляли и плакали четверо детей и жена Годо.
— Ага, что же это такое? Что такое? — у Поты по лицу текли слезы.
— Не знаю, ничего не знаю, — шепотом ответил Токто.
— Смотри, у всех больных сыпь, ведь отец Годо сказал, что это человеческая смерть...
— Он знал, что злой дух будет мстить...
Из нестройных женских причитаний выделялся охрипший, ослабевший голос Кисоакты:
— На кого вы оставляете нас? На кого, дети мои? Кормильцы наши, не уходите, не оставляйте нас! Мы все с голоду умрем без вас, мы от жажды умрем, плача по вас. — И вдруг зазвеневшим голосом она закричала: — Ах ты, поганый злой дух, не боюсь я тебя, не боюсь! Мне и так умереть, не боюсь я тебя. Убей меня, съешь меня, только оставь моих детей, оставь внуков моих! Съешь меня, подавись моими костями!
Уложив Годо в усыпальню, мужчины стали совещаться — как похоронить усопших. Решили закопать в землю, но кто-то спросил, чем мужчины собираются рыть мерзлую землю; подсчитали инструменты — в стойбище нашлась только одна лопата да топоры.
— Кэрэн придется строить, — предложил кто-то неуверенно.
— Придется, — согласился другой.
— Это сколько кэрэнов потребуется? — спросил Токто.
— На каждый род, Ходжерам, Киле...
Два дня все мужчины Полокана строили две родовые усыпальни. Пока шло строительство усыпальни для Ходжеров и Киле, умер старик Донда Бельды, при смерти были люди из родов Заксор, Тумали, слегли четверо строителей, заболели Чонгиаки Ходжер и старушка Кисоакта.
Болезнь не миновала и дом Токто — заболела Оба.
Наступили страшные дни. В Полокане уже не находилось фанзы, где бы не оплакивали умершего, не было землянки, где бы кто-нибудь не лежал при смерти. Днем и ночью Полокан стонал, кашлял, разрывался от душераздирающего плача женщин и детей.
Токто, Пота и Дарако втроем достроили третью усыпальню. Первая усыпальня была уже переполнена, туда укладывали всех усопших, не считаясь с родами. В третью усыпальню положили Молкочо, он был отделен от Годо, племянника и сына, но на это уже никто не обращал внимания.
Однажды прибежал к Токто единственный здоровый в семье Чонгиаки внук и попросил навестить деда. Старик лежал на нарах ногами к дверям. Он был неузнаваем: лицо опухло, вздулось пузырями, будто на лицо надели маску из белой глины; веки неприятно краснели на белой маске.
— Приготовился уходить, — прошамкал Чонгиаки, — лежу ногами к дверям... некому за мной... вот позвал тебя... услышал, ты единственный здоровый...
— Пота еще на ногах, Дарако ходит, — сказал Токто, чувствуя себя бесконечно усталым и завидуя всем уходящим так спокойно из этой наполненной горем жизни... Токто физически и духовно ослаб, глядя на умирающих, участвуя на похоронах.
— Думал попросить... похоронить меня... — продолжал старик, — теперь не надо. Токто... я тебя любил... как сына, ты храбрый человек...
Чонгиаки замолчал, потом, собрав силы, снова заговорил:
— Уходи. Уходи из стойбища... Сейчас же беги... Я давно чувствовал... будет горе... Поту приютил... он жену слишком часто обнимал, на руках носил... Ты, говорят... на Амуре всех наших на грешном месте поселил... В злого духа промазал Пота... Все плохо... это вызвало галанко... Беги, нэку...
Старик закашлял. Токто подал ему воды.
— Умираю... перед смертью обо всем думал... о тебе думал... о торговце думал... долг ему не отдал. Стыдно... На прощанье говорить хочется... Но ты уходи...
Галанко — наивысший грех.
Токто никогда не плакал, как стал охотником, но теперь сдали его нервы: из глаз выпали две светлые слезинки. Он тихо вышел из пахнущего мертвечиной дома Чонгиаки и побежал домой. Пробегая мимо фанзы, он услышал собачью драку, заглянул в открытую дверь и замер от ужаса — три собаки дрались на нарах, где лежал еще теплый труп. Токто выхватил толстую палку и ударил по голове собаку, убил ее, ударил вторую, третья успела выскользнуть в дверь. Токто закрыл дверь, подпер палкой и побежал дальше.
«Галанко! Да, это галанко! Это то, о чем рассказывали старики, — погибает все стойбище. Полокана больше нет! Бежать, надо немедленно бежать».
В землянке плакал ребенок, стонала Оба, испуганные, убитые горем Кэкэчэ и Идари сидели, прижавшись друг другу, и качали люльку.
— Где Пота? — спросил Токто.
— Дарако свалился, у него он, — ответила Идари.
Токто подошел к Обе, сел возле нее. Оба перестала стонать, взглянула красными глазами на мужа. У Токто сжалось сердце, перед ним лежала уродливая, страшная женщина. Неужели это милая, ласковая Оба? Неужели это та Оба, которую он обнимал, которая шептала ему нежные слова?
— Не смотри на меня, — прошептала женщина, ело шевеля губами.
— Оба, Чонгиаки советует нам бежать, — сказал Токто.
— Правильно советует... бежать надо...
— Сможешь ты с нами?..
Оба отвернулась от мужа и тяжело задышала:
— Ты от смерти спасай Кэкэчэ... сам спасайся. Зачем меня брать?
— Нет, Оба, я не могу тебя оставить, нам надо бежать всем вместе. Ты еще выживешь, Оба, ты еще родишь мне сына.
— В могиле не рожают...
— Бежим, бежим, Оба.
— Ты был всегда хорошим... Я гордилась тобой... Я всегда тебе... буду помогать... Я сделаюсь добрым духом... Беги, спасай Кэкэчэ, спаси мою дочь...
По щекам Обы струились прозрачные, как весенний кленовый сок, капельки. Она не могла их скрыть, не могла вытереть.
Токто подозвал Кэкэчэ и Идари, и сам вышел из землянки. Он задыхался.
Вернулся Пота, сообщил, что Дарако тоже заболел этой же страшной болезнью. Токто молча готовил из весенних лыж низкие сани, наподобие волокуш.
— Бежать надо, — сказал он, — делай себе такие же волокуши.
— Зачем волокуши? Может, на нартах...
— Кругом полыньи на реке... На волокуши погрузим оморочки. Ладно, я сам буду делать волокуши, а ты вычисти от снега обе оморочки, вытаскивай продовольствие, все охотничье снаряжение. Спеши, ночью выедем.
А в это время Кэкэчэ поднесла к Обе дочурку и, держа ее на руках, говорила:
— Послушайся мужа, поедем вместе, как ты останешься одна, о дочурке будешь вспоминать... — Кэкэчэ плакала. Плакала и сидевшая рядом Идари.
— Не просите меня... дочь спасите. Скажите... любила ее старшая мать... очень любила...
Оба больше ничего не сказала, застонав, она отвернулась от женщин.
В полночь, нагруженные продовольствием, одеждой, оморочки стояли на волокушах, к ним запряжены были собаки. Женщины вынесли последние вещи, устроились в оморочках. Токто с Потой вернулись в землянку.
— Оба, в последний раз прошу — бежим вместе, — сказал Токто, подсаживаясь к жене.
Оба молчала. Токто знал — она не спит.
— Нет, не упрашивай... единственный раз против твоей воли иду, — прошептала Оба. — Беги...
Токто обнял жену и впервые в жизни заплакал, зарыдал, не стыдясь слез, не стыдясь рыданий... Пота стоял возле нар и тоже рыдал.
Токто не мог говорить, какая-то сила сдавила его горло, теснила грудь. Он подошел к Гуси-Тора, встал на колени и дрожащим, незнакомым голосом, сказал:
— Гуси-Тора, прошу тебя, не откажи мне, последуй за мной, куда бы я ни поехал... Ты был всегда добр... последуй за мной, не откажи.
Токто говорил Гуси-Торе и сам не верил своей молитве, потому что эти слова были обращены к Обе. Пота вслед за Токто повторил молитву-просьбу и тоже поднялся на ноги.
Токто опять подошел к жене, тихонько обнял ее и вновь заплакал.
— Беги... не задерживайся... — говорила Оба.
Токто выбежал на улицу, отвязал собак и погнал упряжку вниз по реке. Он не видел ни реки, ни берегов, ни полыней, которые поблескивали в ночи. Он не слышал разноголосого* крика уток, первых куликов, не слышал плача ребенка за спиной: он уткнулся лицом в ободок оморочки и не поднимал головы. Пота с Идари следовали за ним. К утру, когда восток начал окрашиваться в белый цвет, Пота почувствовал, как его вожак вдруг ни с того ни с сего с середины реки рванулся в левую сторону. Оморочка боком покатилась вслед за Токто в угрожающе накренилась.
— Кай! Кай! — закричал Пота и в это время увидел, как оморочка Токто со всего хода плюхнулась в полынью.
— Тах! Тах! — закричал Токто. — Ах вы, стервы, тах, тах!
Собаки плыли по воде, карабкались на лед. Оморочка Токто покачивалась на воде. Пота помог собакам вытащить берестянку. Токто не сходил с оморочки, не помогал собакам вытаскивать ее из полыньи — он будто не видел, не слышал окружающего.
А солнце уже поднималось над сопками, ослепительно яркое, вытянутое, точно бубен шамана. Еще громче закричали утки, и табун за табуном с веселым гомоном пролетали над головами беженцев — они летели на север ради продолжения своего утиного рода.
Токто повернул упряжку на север. К полудню беженцы доехали до большой релки. Мужчины распрягли собак, начали ставить берестяную юрту.
— Ага, со мной плохо, — сказал Пота. — К утру стало меня трясти.
— Не заболел ли? — словно очнулся от забытья Токто и встревоженно приложил ладонь ко лбу Поты. — Да, жар большой.
Поставили юрту, женщины перенесли вещи в нее, заняли свои углы. Проснулся ребенок Кэкэчэ и опять заревел.
— Отец Булки, иди сюда, посмотри, что такое, — стараясь быть спокойной, позвала мужа Кэкэчэ.
Токто вошел в юрту, взглянул на личико дочери, и лицо его посерело. У дочери появилась оспенная сыпь — бледно-розовые пупырышки с булавочную головку.
— Что, Кэкэчэ? Неужели она тоже? — прошептала Идари.
Кэкэчэ заплакала. Вошел в юрту Пота.
— Слышишь, он, заболела, — тихо сообщила Идари горестную новость мужу. Пота с непонятным Идари безразличием тупо взглянул на плакавшего ребенка, на Кэкэчэ, на бледного Токто и устало лег на кабанью шкуру. Идари с ужасом следила за мужем: она поняла все.
— Он, он, что с тобой?! Скажи слово!
Идари всей тяжестью навалилась на Поту, оперлась толстым животом на его грудь и заплакала.
На следующий день умерла дочь Токто, а в ста шагах от юрты в хвойном шалаше родился сын Поты, он появился на свет тихо, без крика, он словно сразу испугался нового незнакомого мира, отказывался в нем жить. Но нет, ты будешь жить! Нельзя позволить, чтобы исчез с земли человеческий род! Идари откусила мизинец сына. Мальчик взвизгнул и опять захлебнулся. Идари откусила второй мизинец, и тут мертвая земля разразилась новым неистовым человеческим голосом...
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Питрос Бельды всегда считался в стойбище Болонь самым уважаемым человеком, и потому все прислушивались к его словам, даже торговец У относился к нему с заметным почтением. Недавно Питрос, как родовой судья, разобрал довольно сложную тяжбу между родами Бельды и Киле. Помогло этому то обстоятельство, что судья рода Киле даже среди своих сородичей был не весьма уважаемый человек — за ним числились многие грешки. Поэтому Питрос и выиграл судебное дело довольно легко. Со временем он совершенно позабыл о судебном разбирательстве, да и вспоминать было некогда, потому что с утра до вечера он гостил у своих любвеобильных соседей, вел приятные беседы с друзьями за кувшинчиком разогретой водки.
— Тебе, друг Питрос, можно на охоту не ходить, — подтрунивал над ним крепко выпивший Лэтэ Самар. — Разберешь одну, другую тяжбу — и смотришь, прокормил семью.
Надсмехаться над своим родовым судьей не осмелился бы ни один Бельды: Питрос являлся священным лицом, как и шаман. Лэтэ хоть и был из рода Самар, но тоже не стал бы подтрунивать над судьей, если бы не хмель в голове.
— Ты, Лэтэ, старый человек, а ведешь себя хуже пятилетнего шалуна, — оскорбился шаман Хото Бельды.
— Скоро еще одно дело будешь разбирать, — не унимался Лэтэ. — Молодой человек придет жаловаться на хулусэнского Ливэкэна, он опять не возвратил тори, хотя дочь давно сбежала от мужа.
Тут но выдержали седобородые старики и набросились на Лэтэ, в фанзе поднялся крик, визг. Питрос с обиженным видом сидел на нарах и курил трубку. Старики заставили Лэтэ просить прощения, и Лэтэ полез на коленях к Питросу. Открылась дверь, и с клубами холодного воздуха вошел незнакомый русский, он остановился на пороге, недоуменно оглядел пьяную компанию и, улыбнувшись, поздоровался по-нанайски.
Все, кто находился в фанзе, смотрели на вошедшего незнакомца, одни с любопытством, другие с недоумением, третьи со страхом; но на приветствие ответили дружно.
Питрос неторопливо слез с нар и подошел к русскому.
— Ты Харапай? — спросил он и, не дождавшись ответа, схватил русского, потащил к нарам и посадил на свое место.
— Это Харапай, это русский доктор, он многих низовских нанай вылечил от разных болезней, хороший человек, — позабыв о достоинстве судьи, скороговоркой сообщил Питрос.
— А-а-а, тогда мы слышали, — раздалось сразу несколько голосов. — Это он вылечил в Нярги несколько детей, одного даже из могилы вытащил.
Василий Ерофеевич улыбался, глядя на оживленных охотников. Ему не давали сказать слова, со всех сторон предлагали чашечки с водкой. Он выпил одну, вторую, но от третьей отказался.
— Где же я видел вас? — спросил он Питроса.
— В Бельго видел, — ответил Питрос.
— Да, да, припоминаю, вы дянгиан, тяжбу разбирали. Хотел тогда я с вами поговорить, кое о чем расспросить, да было к вам но подступиться, тогда после суда тоже много пили.
— Пили, пили.
— А сейчас после охоты пьете?
— После охоты, после охоты. Как не пить?
Храпай нахмурился, две глубокие канавки пролегли выше переносицы.
«Первобытность и плюс водка, — думал он. — Что останется от народа, если это так будет продолжаться? Кто поможет этому народу выжить?»
— Ты чего задумался? — спросил Питрос, не замечая предлагавшего ему чашечку Лэтэ. — Расскажи, как ты тут оказался? В Нярги людей лечил — это мы слышали, потом, говорят, ты потерялся?
— Я вверх ездил, до русского села Славянка.
— По-нанайски мы называем Гион-медь.
— Из Славянки возвращаюсь.
— Опасно сейчас ехать по Амуру, везде уже полыньи.
— Надо ехать. Сегодня осмотрю всех больных, вечером выеду.
— Зачем торопиться? Тебя начальник послал, потому спешишь?
— Я сам, по своей воле приехал.
— Тогда зачем спешить? Ты гуляй сегодня с нами, выпей водки, завтра поглядишь на больных, и мы тебя на хорошей упряжке отвезем до Мэнгэна, а там правым берегом — неопасно. Доберешься до дому.
— Нет, друг, пить я больше не могу.
Окружавшие доктора охотники подняли его на смех, называли «не мужчиной», они никак не верили, чтобы взрослый человек не мог ни курить, ни выпить больше двух чашечек водки. Василий Ерофеевич весело смеялся вместе с ними, сам шутил над собой, но и здесь он понимал, что вести ему разговор о вреде курева и водки нет смысла: почва еще далеко не была подготовлена для посева, и семена были бы брошены впустую. Наконец наступила небольшая пауза, между шутками и смехом Василий Ерофеевич спросил, не болеет ли кто, не надо ли кому помочь?
— У нас свой шаман есть, он от всех болезней вылечивает, — сказал кто-то.
Шаман Хото Бельды, сидевший безучастно в сторонке с момента появления доктора, даже не шелохнулся, хотя и чувствовал на себе взгляды всех присутствующих. Хото с первых слов Питроса, расхваливавшего русского доктора, посчитал себя смертельно оскорбленным, и если бы на месте Питроса был кто-нибудь другой, то шаман показал бы, на что он пригоден. Василий Ерофеевич по общему настроению и по тому, как присутствующие смотрели на Хото, догадался, что перед ним сидит местный шаман.
— Шаманы бубном, пением, танцами лечат, а я лекарствами лечу, — сказал он по-нанайски.
Наступило неловкое молчание. Шаман не шелохнулся. Василий Ерофеевич понял: шаман не хочет принимать открытого боя.
— Ладно, пусть ваш шаман лечит, какие он может вылечить болезни, а я пойду старушкам глаза лечить, а детям болячки. До свидания.
— Обожди, — Питрос раньше его соскочил с нар. — У меня внук, у него возле рта столько болячек, будто кто кетовой икрой обсыпал. Будешь лечить?
— Пойдем, посмотрю.
И тут неожиданно один за другим подбежали охотники, у многих из них слезились покрасневшие от ослепительного снега глаза, у других дома лежали больные дети и жены. Посовещавшись с Питросом, Василий Ерофеевич начал обход стойбища с верхнего конца. К полудню он закончил обход и зашел к Питросу.
— Так быстро вылечил? — удивился судья.
— Кто хотел помощи, тому помог, многие отказались. Почему они отказались?
— Лекарства твоего боятся, наверно.
— Нет, не в этом дело.
— Женщины стесняются тебя.
— Нет, тоже не то.
— Не хотят, чтобы ты их внутренности прослушивал своей трубкой.
— Не то. Шамана боятся. Я уеду, а шаман останется, если заболеют, кто поможет? Кроме шамана, некому. Вот почему боятся. В Бельго теперь меньше боятся, потому что я рядом, ко мне можно приехать.
Питрос ничего не ответил, он понимал справедливость слов доктора, но поддержать его ему не хотелось. Он знал, почему сегодня охотники вдруг скопом захотели лечиться у русского доктора: если бы он не замолвил первое слово, то никто в присутствии шамана и дянгиана не осмелился бы попросить помощи, но так как первым пожелал лечиться сам родовой судья, то дорога была открыта и другим.
«Как теперь Хото на меня будет смотреть? — думал Питрос. — Проклял, наверно. Ну, проклинай, не мне бояться!»
В фанзу вошел Баоса, за ним Ойта.
— Э-э, дорогой друг, когда ты приехал, почему я не чуял твоего запаха? — Питрос соскочил с нар и побежал к приятелю.
— Потому что сам ты водкой пропах и я водкой пахну, — ответил Баоса. — Если нос в смоле, разве унюхаешь хвою?
— Когда приехал? — спрашивал Питрос, не вникая в рассуждения Баосы.
— Сегодня приехал, набрал продуктов, водки и сегодня же возвращаюсь. Амур слишком плох стал, лед ненадежный.
— А-я-я, как же так? Сегодня приехал и сегодня же домой, мы же с тобой даже кувшинчик водки не распили.
Василий Ерофеевич сотни раз наблюдал встречи и расставания охотников, видел, какие они бывают сдержанные, несколько оконфуженные, когда расстаются с женами, и какие возбужденные при встречах со старыми друзьями и родственниками. В искренности чувств, объятий, похлопываний друг друга по спине никто бы не смог засомневаться, об этом свидетельствовали радостные восклицания и горящие глаза. Но одно не нравилось Василию Ерофеевичу: дикая выпивка при встречах, порою продолжающаяся по два-три дня, пока не иссякнут последние капли зелья в жестяных банках, в бутылках.
«Будут выпивать, — подумал Василий Ерофеевич, услышав последние слова Питроса. — Гость сегодня, видно, не уедет».
— Да-а, Баоса, у меня гость, русский доктор, хороший человек, Харапай его зовут. Говорят, он у вас детей спас, старушек и женщин вылечил, — сказал Питрос, указывая на Василия Ерофеевича.
Баоса прямо взглянул на доктора и невнятно поздоровался.
«Это он с Митрофаном вытащил мой невод из амбара», — подумал он.
«Какие у него удивительные глаза, это редкость для гольдов. Зеленые, изумрудные и серый пепельный белок. Видно, к старости обесцветились они», — удивлялся Василий Ерофеевич, здороваясь с гостем.
— Вы из Нярги? О, там у меня друг есть, Пиапоном его зовут, — сказал вслух доктор.
— Пиапон — это его сын, — ответил вместо Баосы Питрос.
— Это ваш сын? Славный человек, душевный.
«Видно, снюхались, прежде чем невод воровать», — подумал беззлобно Баоса.
— Как его дети, как жена, все здоровы? — спросил доктор.
— Живы.
«Сердится старикашка, — улыбнулся про себя Василий Ерофеевич. — Видно, не удается ему уговорить Пиапона вернуться в большой дом».
— Эй, мама, кушать подай, водку разогрей! — распорядился Питрос и обратился к Ойте: — А ты, охотник, чего топчешься возле порога, проходи, садись. Эй, женщины, молодому охотнику трубку!
— Мальчик, ты разве куришь? — спросил доктор, хотя прекрасно знал, что Ойта должен курить. — Смотри на меня, я старше твоего отца, но не курю. Нельзя курить, легкие потом будут болеть, кровью начнешь харкать.
Ойта изумленно посмотрел на доктора, так безбожно коверкавшего нанайские слова, и хотел было демонстративно, как подобает настоящему мужчине, охотнику, закурить, но напоминание о кровавом кашле до жути воскресило в его памяти страдальческое лицо корчившейся от кашля и боли бабушки, он побледнел и отвернулся от протянутой девушкой трубки.
Баоса с Питросом молча следили за этой немой сценой, укоризненно покачали головами, и Василий Ерофеевич прочитал в глазах Питроса: «Сам не мужчина, зачем же молодых охотников совращаешь?» А глаза Баосы были полны презрения. Василий Ерофеевич не обратил никакого внимания на стариков, он был сам удивлен своей неожиданной победой.
Ойта, опустив голову, сидел на краю нар, и никто из взрослых не догадывался, что творилось у него в душе; он знал, что с этого времени будет вечно презираем дедом, все его будут считать неполноценным человеком, но побороть себя Ойта не мог: перед глазами все продолжала корчиться и царапать скрюченными пальцами грудь бабушка, казалось, он даже слышал исступленный кашель умирающей.
Жена Питроса поставила низенький складной столик, разложила еду, подала медный кувшинчик разогретой водки и пригласила гостей.
— Извини меня, дянгиан, — сказал Василий Ерофеевич. — Я не могу пить, есть, вот так сыт. Пойду к Лэтэ Самару, он звал.
Питрос знал, если доктор скажет слово, то никогда не переступит через него, и он только ради приличия продолжал уговаривать его выпить чашечку водки.
— Ничего не сделаешь, — сдался он наконец. — Иди к Лэтэ, скажи ему, я простил его, он поймет. — Питрос понизил голос: — Ты шаман, видно. Мальчонка курил, а ты одним словом заставил отказаться от трубки. Зря это. Зря!
— Нет, не зря, дянгиан. Если хочешь, чтобы молодежь росла сильной, здоровой, не разрешай курить и водку пить. Это вредно. Очень вредно!
— Мы курили, пили — вот, дожили...
— Есть сильные и слабые люди, разные есть люди. Да, вы сказали, меня отвезут в Мэнгэн?
— Отвезем, отвезем, солнце к западу склонится, и сильная упряжка выедет из Болони.
Питрос сдержал свое слово. Когда Василий Ерофеевич вернулся в его фанзу в четвертом часу, на берегу стояли две готовые к отъезду упряжки: одна, нагруженная продовольствием, — Баосы, другая предназначалась доктору.
— Оставили... Полокто отказался вернуться, в тайге слово давал, сволочь, сына взамен отдал... Пиапон... тот не вернется, — говорил Баоса, когда Василий Ерофеевич входил в фанзу.
— А-а, доктор! Всех лечил? Все теперь здоровы? — начал расспрашивать Питрос. Он был сильно выпивши, стоял перед доктором покачиваясь, как дерево во время сильного ветра. Оставайся, Харапай, мы тебя кормить будем, поить будем. Оставайся!
— Так вы все у торговца в долгу останетесь, не прокормите меня, — пошутил Василий Ерофеевич.
— Найдем еду, только оставайся, без торговца мы прокормим. Ты хороший человек, ты доктор. Ты шаман.
— Нельзя, дянгиан, надо на месте быть, начальство будет сердиться.
Питрос с домочадцами, соседи, Лэтэ с детьми вышли провожать Василия Ерофеевича. Пьяный Питрос обнимал его и просил приехать летом. Молодой каюр отвязывал веревку, которая удерживала упряжку, собаки залаяли, вожак с нетерпением оглядывался на каюра, готовый по первому окрику устремиться вперед.
В это время прибежал с верхнего конца стойбища молодой охотник, ухватился за руку Питроса и закричал:
— Беда! Беда, дянгиан, озерские приехали, в Полокане люди вымерли, страшная болезнь!
— Кто вымер? Какая болезнь? — раздались голоса.
— Токто приехал, больного оспой привез!
— С ума он сошел?! Что он сделал?! Эй, люди, бегите из стойбища, оспу привезли!
Василий Ерофеевич не разобрал тревожного сообщения гонца, но общее волнение передалось и ему. На его вопросы наконец ответил Лэтэ:
— Оспа — страшная болезнь, озерские привезли умирающего.
Люди побежали на верхний конец стойбища посмотреть на прибывших. Василий Ерофеевич бежал к толпе, обгоняя женщин и пьяных мужчин. На берегу у самой крайней фанзы, там, где лед припаялся к прибрежным камням, стояли две оморочки на полозьях, запряженные в упряжки. Вокруг оморочек столпились болоньцы, одни пришли, гонимые любопытством, другие — состраданием, третьи — чтобы проявить свою власть и силу. Возле оморочек, опершись на палку с железным наконечником, стоял в решительной позе Токто; лицо его было бледное, усталое, но глаза горели странным голубым огнем. Перед Токто прыгал и размахивал руками шаман Хото Бельды.
— Ты, Токто, таежные законы нарушил! Тебя за это убить мало! — кричал он, разбрызгивая пену изо рта. — Все люди при этой страшной болезни убегают подальше от людей в тайгу. А ты, росомаха, ты нарушил этот закон!
Токто презрительно взглянул на него и проговорил хриплым голосом:
— Хото, я тебя больше шаманом не считаю, ты обманщик. Не ты ли предсказывал, что следующий мой ребенок выживет?
— Не о ребенке разговор! Уходи, сейчас же уходи из стойбища куда глаза глядят!
— Ребенок мой умер. Что теперь скажешь?
— Уходи, сейчас же уходи в тайгу!
— Я не зверь, я человек! — вдруг взорвался Токто. — Чего ты гонишь меня в тайгу? Я не лось, не медведь, я — человек! Понял, сучий сын? Большая беда пришла к нам, куда я должен идти, где должен искать тепло и поддержку! У зверей? В тайге? Нет, я человек и пришел к людям просить помощи.
— Ты смерть привез с собой, люди теперь должны покинуть стойбище и бежать в тайгу.
— Ты нехорошо поступил, Токто, — сказал кто-то в толпе. — Умирающего привез да грязную, только что родившую женщину... Это большой грех, беда может случиться...
Токто поднял обе руки и, точно собираясь кого-то ударить, размахнулся палкой.
— Люди! Сородичи! Неужели вы меня вновь гоните в тайгу, одного с умирающим братом... Я пришел к вам потому, что при людях легче пережить всякую боль, я... — Токто поперхнулся и добавил уже тише, опуская палку: — Что же, если гоните — уеду. А тебе, Хото, я больше не верю.
Токто окинул шамана полными злобы глазами и отвернулся. Краем глаза он видел бегущую к оморочке толпу. Он наклонился над Потой, поправил одеяло на нем, встретившись с его воспаленными глазами, быстро отвел взгляд. Тут кто-то встал рядом с ним, наклонился над Потой. Токто даже не удивился, увидев рядом с собой русского. Его сейчас, пожалуй, нельзя было удивить ничем на свете; после того, как его верные друзья, сородичи, прежде всегда готовые помочь в любой беде, решили выгнать его из стойбища безо всякого сочувствия, он уже не был способен удивляться чему-нибудь.
— Оспа, — сказал русский. — В другой оморочке тоже больные оспой?
Но ожидая ответа, он подошел к другой оморочке, осмотрел лица, руки Идари и Кэкэчэ, взглянул на новорожденного.
— Друзья, друзья, все отходите от оморочки! — сказал Василий Ерофеевич. — Подальше, подальше. А вы как себя чувствуете, не болеете? — спросил он Токто.
— Некогда болеть, — не очень дружелюбно ответил Токто.
Василий Ерофеевич подошел к Питросу.
— Вы самый уважаемый человек в Болони, вас все слушаются, скажите людям, чтобы никто из Болони не выезжал без вашего и моего разрешения. Я буду делать... — Василий Ерофеевич не нашел подходящего нанайского слова и сказал по-русски: — Буду делать прививки.
Пока Василий Ерофеевич договаривался с Питросом о фанзе, где можно было бы поместить больного, из толпы вышел Баоса и неторопливо подошел к оморочкам. Он отвернул одеяло Поты, пристально посмотрел в опухшее в язвах лицо, но, не узнав беглеца, подошел к другой оморочке.
— Отец! Отец! — простонала Идари, увидев наклонившегося над ней Баосу, и из открытых, расширившихся ее глаз потекли крупные слезы.
Баоса вздрогнул, услышав голос дочери, тугие желваки задвигались на челюстях, он что-то хотел сказать, но в это время раздался громкий, недовольный визг новорожденного.
— Сын родился, отец, — прошептала Идари. — А отец его умирает... все умирают...
— Это Пота? — только спросил Баоса.
— Да, это Пота, — ответил за Идари подошедший к ним Токто. — Говорят, ты искал его повсюду, чтобы убить, вот он и вернулся сам, привез сына, жену. Его сейчас легко убить, он шевельнуться даже не может...
— Ты кто такой? Почему так со мной разговариваешь? — закричал разгневанный Баоса.
— Я его названый старший брат, это я его скрывал.
Баоса встретился с полыхавшими голубым огнем глазами Токто и подумал: «Злой, как тигр».
— Если убьешь его — закопаю здесь, если оставишь в живых, то увезу в тайгу, — продолжал Токто.
— Сам сдохнет! — выкрикнул Баоса и зашагал в стойбище.
— Может, его сына убьешь? — спросил Токто и подумал: «Что это со мной? Не с ума ли я схожу? Это все шаман Хото виноват, вывел меня из себя».
Он развернул одну оморочку в сторону озера, повернул вожака с упряжкой туда же.
— Куда вы собрались? — спросил, подбегая к нему Василий Ерофеевич.
— В тайгу, к зверям; если люди не помогают, может, звери помогут.
— Никуда не поедете. Я доктор, я лечу людей от всех болезней. Я буду лечить вашего брата.
— Шаман меня выгоняет...
— Шаман одно, я другое. Если шаману не нравится, пусть он сам бежит в тайгу. Больной и женщины с малюткой замерзнут, пока мы спорим. Фанза уже есть, перенесем больного.
Василий Ерофеевич остался в Болони, хотя знал, что если не переедет через Амур завтра, послезавтра, то останется в стойбище до тех пор, пока Амур не очистится ото льда. Но оставлять тяжело больного Поту, все стойбище, которому угрожала эпидемия оспы, ему не позволяла человеческая совесть и совесть врача. С волнением принялся Василий Ерофеевич за прививки, он обошел каждую фанзу и только в четырех фанзах не нашел жителей, бежавших в тайгу вместе с шаманом.
Без прививки уехал из Болони и Баоса с внуком. По узкой протоке он выехал на торосистый Амур и погнал собак по еле уловимой подтаявшей дороге. Встречный ветер дохнул в лицо, обжег вечерним морозцем, и Баоса почувствовал себя освеженным, голову перестало ломить.
Баоса вспомнил, как он бессмысленно истратил лето в поисках беглецов, которые прятались на Харпи, как он впустую старался вновь собрать большой дом. Все это было глупо, как теперь он сам понимал: развалившуюся под тяжестью груза нарту можно починить, но если эту же нарту нарочно разломает человек, ее уже не соберешь, не отремонтируешь. Не так ли случилось с большим домом? С побегом Идари большой дом дал трещину, но его можно было отремонтировать, а с уходом Пиапона и Полокто дом совсем развалился, его уже никто не мог сколотить.
«Что теперь говорить, старшие сыновья не вернутся, Идари уже с сыном, — думал Баоса и вдруг поймал себя на том, что думает о дочери без прежней злобы. — Пусть живут... Фарфоровая чашечка разбилась, никто еще разбитую чашку не склеивал. Пусть... разбита так разбита... немного осталось жить...»
По-прежнему дул навстречу ветерок, легкий апрельский морозец пощипывал лицо. Собаки бежали во всю мочь, чуяли под собой подтаявший, непрочный лед. Амур дышал глубоко и шумно, собирал силы, чтобы через несколько дней сбросить с себя ледяную одежду. Воздух, снег, лед и ветер пахли весной.
1965.

 СМИ не получает субсидий.
СМИ не получает субсидий.





